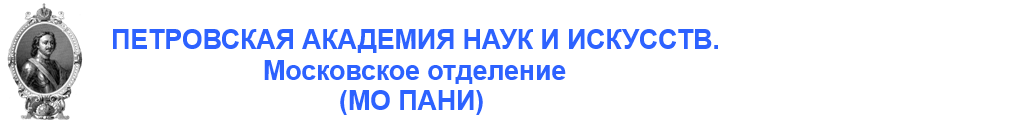ТРИУМФ и НАВАЖДЕНИЕ
(Записки о Театре на Таганке)
« И я, грешный, частенько привираю,
вот и надо это написать: где привирал,
а где нет. А может, и не надо, пусть
сам читатель соображает, где».
Ю. Любимов
«Рассказы старого трепача»
« Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный,
опять припоминаю благодарно».
«Фауст» И.Гете
Эти записки написаны от третьего лица – писателя Виктора Самойлова. Причин здесь две – желание взглянуть на события со стороны и стремление не выделять свое «Я» в истории, где десятки действующих лиц, не менее важных и значительных, чем автор. Материалом послужили заметки, сделанные в разные годы, особенно в повторные гастроли театра в Болгарии, когда общение с Ю. Любимовым было особенно интенсивным и дружественным. Но главным источником стали впечатления о «золотой поре» — первом десятилетии театра на Таганке и непосредственной работе в этом коллективе. Именно в эти годы начинался триумф, а наваждения еще никто не замечал, либо не придавал ему особого значения.
Рабочий день у Виктора Самойлова начинался рано – в пять часов утра. Работал он до обеда. Книга была об одном английском драматурге, еще без названия – из тех, которые пишутся по заказу. Вечером он набрасывал, что в ней следует сократить или не забыть добавить, но утром дело почему-то шло туго, за хлябями не видно было исхода. Но эту работу ему поручили не случайно.
Дело в том, что Самойлов хорошо знал и ценил английскую литературу. Он и язык выучил в том возрасте, когда эта доблесть, практически, никому не нужна — курам на смех. К этому времени французский «просел» из-за ненадобности, а английский появился из-за востребованности. Наверное, так чудно воплотилась юношеская мечта — походить на английского министра иностранных дел Идена, в которого была влюблена мама. Мальчиком он зачитывался «Островом сокровищ» Роберта Стивенсона, позже, уже режиссером, ставил в разных театрах пьесы бывших актеров — драматургов Пристли и Пинтера. А афоризм менее известного англичанина Чарльза Рида исповедовал всю жизнь: «Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу». Далеко не все из этого воплотилось в облике Самойлова, но вставать рано, вошло в привычку и стало второй его натурой. В самый разгар работы ему вдруг позвонили.
— Привет, Виктор Александрович, — раздался голос Натальи Федоровны из мэрии, — вы не забыли об обещанных билетах в театр на Таганку?
Самойлов тотчас вспомнил, что договорился с новым худруком театра Валерием Золотухиным — решить вопрос о посещении театра группой школьников — победителей олимпиады по русскому языку. Билетов надо было много, поэтому Валерий Сергеевич предложил Самойлову встретиться.
— Не волнуйтесь, Наталья Федоровна, я помню и сегодня поеду в театр – сказал он. Затем они уточнили программу и призовой фонд мероприятия, и на этом попрощались.
За полтора часа до назначенного времени встречи Самойлов выбрался из Переделкина и потопал к станции на электричку.
* * *
В это же день утром режиссера Ю.П.Любимова должны были положить в больницу. Катерина из подъезда вышла раньше мужа и предупредила шофера:
— Николай, езжай по другой дороге, не надо ему видеть театр.
Шофер, погруженный в какие-то свои размышления, то ли не услышал, то ли не понял смысла, сказанного ему.
— Поедем в обход. Ты меня понял? — требовательно повторила она, устраиваясь на заднем сиденье.
По дороге Кумир догадался, что между женой и водителем — сговор и в нужный момент попросил проехать мимо тетра. По улице Верхней Радищевской проезд был через светофор, и машина остановилась. И в этот момент Любимов увидел из окна машины бывшего актера театра на Таганке Виктора Самойлова, который стоял у перехода. Прошло лет пятнадцать, как они не встречались.
«А этот что тут делает?» — подумал Кумир и заметил, что Самойлов тоже его увидел и приветственно помахал рукой. Кумир сделал кивок и на вопрос жены:
— Кто там? — ответил лаконично:
— Так, показалось.
Самойлов был в ряду тех, кто давно ушел из его повседневности.
Режиссер бросил прощальный взгляд на Дом, в котором провел почти полвека.
— Смотри, как быстро всё потускнело. Мне казалось, что все, что мы создали — на века, а Господь распорядился иначе, — тихо, пересохшими губами прошептал он.
— Не волнуйся, Господь тут не причем, — ответила жена, — у него своей работы вагон и маленькая тележка.
За годы совместной жизни жена знала, что ему сказать и, главное, как сказать. Она, любила русские поговорки и за годы жизни в России многие запомнила дословно.
Зажегся зеленый свет и машина тронулась. Кумир еще раз с печалью в глазах посмотрел в сторону театра.
Реклама сияла, названия спектаклей, как рубцы на сердце, напоминали о своей истории, всё было как всегда, но теперь не было главного – его присутствия.
Дальше водитель гнал «Мерседес» в больницу без остановок. Вскоре они подъехали к «Склифу». Их встретил главный врач, и провел пациента с супругой в отдельную палату. Кумир прошел в ванную, переоделся в предложенную больничную пижаму и стал прощаться с женой. Она припала к его плечу с грустным выражением лица. Каждый раз, когда Катерина за годы совместной жизни отвозила мужа в больницу, она подключала дополнительный ресурс: становилась и врачом, сиделкой и кулинаром одновременно.
— Ну, все, Катя, возвращайся домой и не волнуйся.
Кумир обернулся к главврачу – худому кардиологу в очках с толстыми стеклами и, словно беря его в союзники, сказал:
— Успокойте её, скажите, что все будет в порядке.
Главврач попытался выполнить поставленную задачу, но жена жестом его остановила.
— Олег Яковлевич, — заговорила Катерина с характерным акцентом, я знаю, что вы прекрасный врач и все, надеюсь, будет в порядке. Но у меня маленькая просьба: можно я здесь кое – что переставлю, вынесу лишнее и сделаю комнату уютнее? Юрию Петровичу надо готовиться к двум новым спектаклям, и нужна соответствующая обстановка.
— Пожалуйста, ради Бога. Я подключу нашего завхоза. Мы все заинтересованы, чтобы Юрию Петровичу здесь было комфортно для… рождения новых шедевров.
— Ну-ну-ну! Как говорится: «Аркадий, не говори красиво». Шедевры пекутся там!
Кумир многозначительно поднял глаза вверх и стал прощаться с женой. Главврач, смущенный замечанием мэтра, откланялся и вышел, чтобы проводить Катерину.
Оставшись один, Кумир прошел к постели, тяжело и медленно прилег с краю, прикрыл уставшие глаза и затих. Сквозь полосу разных событий — закономерных взлетов и недостойных провалов — память его стала выбирать наиболее существенное. И прежде всего то, что полностью изменило его жизнь – конфликт с актерами, их непристойное поведение на гастролях в Чехии. Он в сотый раз задавал себе один и тот же вопрос, концентрируя внимание на одном и том же: кто из них подлинный закоперщик? Губенко среди них не было… Филатова тоже,… Скорее всего Швецова, а затем Золотухин. Конечно, он.… Это он всех увлек на бунт. Он всегда подползал к нему «тихой сапой». Кто бы мог подумать: сделал тайный заговор против человека, который принимал его на работу. А это вечно-безрассудное и самодурное наше руководство, зная, что на них нет управы, назначило, человека, не имеющего отношения к профессии. Но его тоже сломают, потому что за всеми этими происками — смертельный капкан, в который угодят все: и правые, и виновные. От этой мысли ему стало холодно, и он повернулся к окну.
У него всегда было недоверие к людям, но никогда не было страха перед законом, а сейчас появилось и то, и другое.
* * *
На служебном входе дежурный сообщил Самойлову, что худрук находится в зрительском фойе, рядом с гардеробом и вежливо посоветовал пройти через главный вход.
— Рядом с гардеробом? Странно, — подумал Самойлов. На входе он представился писателем Самойловым. Его нехотя пропустили. К тому же, не было смысла объяснять, что почти сорок лет назад, в «золотую пору» Таганки, он был ведущим артистом этого театра. Тех, кто его знал, давно уже здесь не было.
Еще издалека он увидел небольшой столик рядом с гардеробом, на котором лежали стопки книг. Золотухин продавал свои книги. Около него толпились зрители и, действительно, кое-кто с радостью приобретал его произведения. Самойлов их уже читал. В них было написано и о нем – «счастливый соперник». Это — о Лаэрте из Гамлета. Валерий тогда эту роль не сыграл. Говорят, хотел другую, но было «препятствие», с которым не мог, справиться даже он. Позже вокруг Гамлета столько насочиняли, что Самойлов перестал эту небывальщину комментировать.
— Виктор, привет! — поднялся на встречу Золотухин. Самойлов почувствовал, что худруку неудобно за свое торговое занятие, поэтому они быстро обнялись, обменялись в подарок друг другу книгами и зашли в администраторскую. Вопрос с билетами решили быстро, и можно было уже расставаться, но Самойлов решил спросить о Любимове.
— Как шеф, Валерий?
— Нездоров. Что-то с сердцем. В Склиф хотят положить. Подремонтировать. Договорился с Большим. Будет ставить «Князя Игоря».
— Я его только что видел, — сказал Самойлов.
— Где? – Золотухин даже оглянулся, словно без его разрешения Кумир просочился на спектакль.
— Он проезжал в машине. Здесь по Верхней Радищевской.
— Ты уверен?
— Да. Он кивнул мне.
— Узнал?
— Да.
— Интересно, что он делал у театра? Может, заходил сюда?
Золотухин на секунду задумался и, словно вспомнив о Самойлове, неожиданно сказал:
— Шеф к тебе хорошо относился. Правда, у него не было первых, вторых и третьих. Был Высоцкий, а потом «мы». Он в книге так и написал: «Я, МЫ, ОНИ».
— Брось, Валерий, он и к тебе хорошо относился.
— Я бы сказал: по-всякому. Но теперь дело не в этом. Надо узнать, что с ним? Куда он поехал? Может, решил вернуться?
Его актерское лицо, постаревшее, испещренное морщинами от постоянных хлопот, сосредоточилось и на секунду обрело деловитость. Но тут же он обернулся к Самойлову, глаза его снова заискрились нестареющей бумбарашевской усмешкой и, худрук, испеченный трудами бесчувственных сотоварищей, заторопился.
— Постой, Валерий, ты не мог бы дать мобильный телефон Юрия Петровича?
— Пожалуйста, только не сейчас. Я тебе пошлю эсэмэску с номером. Добро?
— Спасибо, буду ждать.
— Пока, старик, рад был тебя видать.
Они обнялись и попрощались. Золотухин проходя мимо столика со своими книгами, торопливо шепнул гардеробщице:
— Уберите книги к себе. Потом заберу.
* * *
Вечером Самойлов по телевидению узнал, что Любимова положили в больницу с сердечной недостаточностью. В первую минуту Самойлов подумал, что это конец. В этот же вечер он позвонил знакомой актрисе, с которой многие годы поддерживал близкие отношения.
Она сообщила, что Любимова положили в Склиф.
— Говорят, что не так все страшно.
— Я хочу с ним встретиться, — неожиданно для себя объявил Самойлов. Раньше боялся, а сейчас понял, что я прокляну себя, если еще, хотя бы раз не поговорю.
— Конечно, встреться. Ты не из скандальной компании. Ты давно ушел, – сам по себе. У него на тебя не может быть обид.
— У меня три кассеты разговоров с ним на вторых гастролях в Болгарии.
— Я помню. Мы туда приехали после Турции. Ты нас встречал на границе. Какое дивное было время! Это ведь ты помог организовать те гастроли. Она рассмеялась и вдруг добавила:
— У меня до сих пор хранится водка «Таганка», сделанная в Болгарии.
— Молодец! У меня осталась только пустая бутылка, — признался Самойлов — мы тогда с женой полторы недели жили рядом с ним в гостинице. Каждое утро я слышал: «- Самойлов, где ты?» Я начал писать книгу о нем, добрался до 42 страницы и затем бросил.
— Почему?
— Потому что если писать мне, то это словно добровольно выйти на зрительный зал без штанов. А потом придется «якать» от первого лица. Мое время в театре давно прошло, и обязательно скажут, по какому праву этот «переросток» пишет о гиганте.
— Обязательно скажут. И приготовься к этому. У нас в коллективе сегодня только материть друг друга научились, а что-нибудь сделать для спасения театра – за полцены никого не найдешь. Потом, какой ты «переросток». Ушел из театра в лучшее время, по собственному желанию, работал по рекомендации Любимова главным режиссером академического театра, учился у Розова в Литинституте, стал писателем. Мало, что ли? Вот уж не ожидала от тебя, Виктор, услышать такой вздор. Ты вначале напиши, а потом сомневайся.
— У меня есть срочная работа, правда издательство разорилось и условия изменились.
— Тем более. А тут каждый день на счету. Ему за девяносто. Какие-нибудь вурдалаки такого напишут, что кроме «мифа» ничего не останется.
Смотри, сколько сегодня бездельников и подлипал вокруг Высоцкого. Понаписали, черт знает что! Да еще этот фильм – позорище сыну, который в собственном отце, в великом поэте увидел, только наркомана. Хорошего актера превратили в святочную харю, устроили пиар на всю Россию, а на поверку – пятно, которое никогда не смоешь. В фильме ни одного приличного человека.
C Володей устроили безвозмездную приватизацию. Забрали всего без остатка, превратили в памятник и ни разу не показали, как он работал и безрасчетно жил. Крутят один и тот же фильм, врут на каждой «колее» и сраму не имут.
Она всхлипнула и замолчала.
— А чего удивляться? – подхватил Самойлов. — Многие в детях обретают своих мучителей. — Взбрело же Николаю Второму утвердить в Петербурге отвратительный памятник отцу — Александру Третьему, где он похож на бегемота.
— Витя, поторопись! – вернулся ее голос. — У нас шеф был гений. Помнишь, как он любил повторять из «Трех сестер»: « Мы должны жить, жить, музыка играет так весело». Ведь он каждому из нас сделал судьбу и карьеру, а мы его предали.
— Ты можешь объяснить, что с вами случилось? Почему это все произошло?
— А почему такое случилось на Украине? Видели, куда все катится и вовремя не помогли. Получили войну. А как потеряли Союз в 90-х?
Всё происходило на наших глазах, но все словно ослепли. Выбросили с водой не только ребенка, но и собственную независимость. Театр — это государство. Дрогнет центр – трещина идет по всему зданию.
Юрий Петрович каждого из нас сделал гениальными. А теперь мы все равно как стадо без кнута. Случилось бесовское наваждение, Виктор! Нам теперь до конца жизни не отмыться.
** *
В этот же вечер Самойлов получил эсэмэску от Золотухина. В больницу позвонил позже, когда узнал у дежурного врача, что шефу полегчало. К телефону долго никто не подходил.
И вдруг:
— Да-да-да, слушаю!
— Юрий Петрович, добрый вечер, — это актер Самойлов, который…
— Тебя я видел на Таганке, — обвинительным тоном заговорил шеф. — Что ты там делал? У этих…
Любимов не договорил и задал прямой вопрос:
— Зачем звонишь?
— Хочу встретиться, если позволите. Надумал написать статью о том, что на самом деле произошло. Я не верю тем бредням, которые распространяют всякие мерзавцы.
— Хорошо, сегодня поздно, я только, что принимал процедуру, и весь в этих… в наколках. Завтра я тебя жду в одиннадцать. Ты знаешь, где я?
— Знаю, в Склифе.
— Завтра я попрошу, чтобы тебя встретили и провели ко мне. Будь раньше. Помнишь, как мы с тобой в Болгарии проводили время?
— Конечно, помню. Мы часами говорили об искусстве. У меня сохранился снимок в болгарской газете, где мы дегустируем водку «Таганка», сделанную к приезду театра. Помните?
— Конечно, помню. Кажется, это было на границе. После Турции. Ты привез ящик своей водки. Там на этикетки был хороший девиз: «Пей, Любимый!» За шесть часов дороги в Варну – мои архаровцы все выпили и ни в одном глазу.
— Тогда это была железная труппа.
— Тогда еще были приличия, Виктор. Фотография, которую я тебе подарил, цела? – неожиданно перевел он разговор на другую тему.
— Конечно, цела.
— Что там написано?
— «До встречи, Самойлов!»
— Вот и сегодня я говорю: «До встречи, Самойлов».
На следующий день Самойлов приехал в больницу, и они проговорили, с перерывом на обед почти два часа. Потом был еще разговор по телефону. Он был недолгим, около десяти минут. К Любимову ехала жена, и они торопливо попрощались. Больше им встретиться не удалось.
Сохранилась запись, которую Самойлов сделал на маленький, но объемный диктофон «Сони». Договорились, что большая часть не для прессы. Остальное – на выбор. Перед глазами два аппаратика. Прослушиваю записи разных лет и радуюсь, что наши встречи, придали смелости написать эти строки.
* * *
Как советовала Люба, Самойлов отложил почти законченную работу и вернулся к недописанным сорока двум страницам. Перечитал – не понравилось. В рукописи не было начала, потому что ничего не было сказано о том, как был создан театр.
Об этом Самойлов знал только по рассказам, да и то приблизительно. Нужен был Дупак, тот знал всё. С первым директором театра на Таганке Николай Лукьяновичем Дупаком у него были хорошие отношения. В последние годы Самойлов бывал практически на каждом дне рождении знаменитого директора. Не откладывая в долгий ящик, он позвонил Николаю Лукьяновичу. Дупак тоже оказался в больнице, но в другой, где-то в районе тетра Российской армии. Сговорились встретиться. Это был какой-то психо-неврологический институт, пройти в который оказалось не так просто. Наконец, преодолев все трудности, Самойлов добрался до палаты Николая Лукьяновича, предварительно включив свой «Сони». О встрече с Любимовым не сказал. Не знал, как тот отнесется к тому, что к нему пришли не в первую очередь. Говорили долго. Около двух с половиной часов. Обида на Любимова у Дупака была страшная. Но в конце встречи, Николай Лукьянович Самойлова покорил. Провожая до дверей, он сказал:
— Я вот о чем подумал, Виктор: все, что я пережил, все мои обиды и претензии к Юрию Петровичу, все это не стоит того, что мы сделали вместе. Не было бы Любимова, не было бы театра на Таганке. Все мы до конца жизни должны быть ему благодарны за то, что такой театр существует. Мы все участники великой Легенды, и у каждого существует свое место в её создании.
Доброе начало
Знаменитое Щукинское училище находилась в конце Вахтанговского переулка, а прославленный театр — в начале. Многие десятилетия таланты и талантики переливались из одного здания в другое, достойно продолжая дело рано ушедшего из жизни ученика Станиславского — Вахтангова.
Подъехав к училищу, Кумир прижал «Москвич» для парковки к тротуару, оглянулся и, выйдя из машины, расправил плечи. Ему нравилось после длительного сидения за рулем молодцевато вывалиться из кабины, вытянуться во весь рост, ненароком демонстрируя свою внешность.
Он был среднего роста, широкоплеч, пропорциональная фигура с мужской статью выглядела внушительно, а красивая голова с темными цыганскими глазами и тонкой проседью в густой шевелюре, сразу привлекали внимание. Он уже давно был театральной звездой Вахтанговского театра и не менее известным киноартистом.
Курившие при входе студенты, увидев Любимова, подтянулись и почтительно заулыбались. Ответив на приветствие студентов своей патентованной улыбкой из фильма «Кубанские казаки», он прошел в здание.
Бросив в гардеробе короткую мальчишескую куртку, Кумир на ходу ущипнул за талию знакомую студентку и, оттолкнувшись от перил, теперь уже без костылей (перелом ноги зажил) стал подниматься по ступенькам лестницы наверх.
Сегодня в ГЗ (гимнастическом зале) ему, наконец-то, предстояло сдать кафедре дипломный спектакль или, как принято говорить в театральных вузах, курсовую работу. Полугодом раньше, он — старший педагог училища, показал со своими студентами отрывок и получил разрешение на постановку дипломного спектакля. Шестое чувство ему подсказывало: спектакль «Добрый человек из Сезуана» по Бертольду Брехту — станет его судьбой, главным козырем в его театральной жизни.
В небольшом зале ГЗ уже собрались зрители. Это были театральные болельщики, прилетавшие как бабочки на шумные премьеры.
Они встретили его бурными аплодисментами. Повсюду, даже на полу разместились студенты разных курсов, многие стояли вдоль стен. Отвечая на приветствия, режиссер бочком протиснулся за серые тряпичные кулисы к актерам.
К этому времени слух о необыкновенном дипломном спектакле по каким-то неведомым каналам успел просочиться, и истинные театралы торопились стать первыми зрителями. Заинтересованность была не случайной: китайская притча, рассказывающая о борьбе за свободу, о лицемерии власти, об обманутом народе, от имени которого управляют сатрапы и о многом другом, что принесла на сцену драматургия Брехта, совпадала с настроениями, рожденными ХХ съездом партии.
Этот день был решающим: после ряда прогонов, наступил день сдачи.
С первой минуты спектакль пошел с нарастающим успехом, публика чувствовала, что присутствует на незаурядном театральном событии.
На «Зонге о баранах» — «шагают бараны вряд, бьют барабаны» и особенно после текста:
Власти ходят по дороге…
Труп какой-то на дороге!
« Э! Да это ведь народ!» —
зрительный зал начал топать ногами, и в течение нескольких минут громко кричать: «Пов-то-рить!
Кумир, регулирующий в это время фонарем свет, перекрывая гвалт, громко стал взывать:
— Что вы делаете? Прекратите топать! Перестаньте орать! Дайте продолжить показ! Запретят спектакль, и по вашей милости никто его не увидит! Идиоты, неужели вы не знаете, где вы живете!?
Увидев, в каком состоянии режиссер, зрители постепенно угомонились.
Наконец, спектакль кончился. Прозвучал проигрыш на аккордеоне, резко выключили свет, кроме прожектора, выхватывающего из темноты портрет Брехта. Наступила бездыханная тишина. А через секунду начался обвал — море аплодисментов.
Минут пятнадцать зрители не умокали. Режиссер кланялся в разные стороны, вызывал актеров, художника, переводчика и снова повторял то же самое, но в обратной последовательности. Было много цветов… Все были ошарашены и счастливы, чувствовали себя участниками огромного события. Даже театральные критики – эти заносчивые дилетанты, торопились обменяться мнениями, убеждая друг друга, что стали свидетелями рождения нового режиссерского манифеста. Кто-то из старых театралов-болельщиков сказал: «Сегодня работать постановщиком, не учитывая эстетику этого грандиозного спектакля, уже нельзя».
Внешне Кумир был счастлив, но внутри у него все кипело. Он улыбался, кланялся в разные стороны, ему отдельно хлопали какие-то театральные старушки и по-птичьи выкрикивали – «гениально», но вместе с тем, боковым зрением, он присматривался к кафедре, где за столом, на возвышении началось стихийное обсуждение спектакля. Ректор пытался всех успокоить, но и у него ничего не получалось. Педагоги не унимались, настроение у всех было приподнятым. Все были потрясены необычайным приемом спектакля.
И только пунцовое лицо ректора в этом всеобщем ликовании выглядело сбитым с толку. Он сделал жест Любимову, и тот стал пробираться к кафедре. Поздравив постановщика, ректор предложил ему встретиться незамедлительно в его кабинете и детально обсудить показанный спектакль. Через несколько минут они оказались с глазу на глаз.
— Вы, кажется, дорогой мой, решили бороться не только с традиционной формой советского театра, — начал вежливо, но твердо ректор, сидя в своем белоснежном кабинете, — но и с самой Советской властью. Смотрите, голубчик, как бы для вас это не кончилось плохо. Я общался с Мейерхольдом, знал близко Таирова, не стоит идти по их стопам.
Борис Евгеньевич налил из большого графина воду в граненый стакан, но пить, почему-то не стал.
Кумир заметил, что ректор не находит себе места, но решил выждать.
-Я видел этих режиссеров «отрешенными» и потерянными.
— Они – продолжил ректор, сожалели о конфликте с властью, но, как говорится, поезд ушел. Конечно, они себя успели показать, вошли в историю, но и половины не сделали того, на что были призваны. Добавлю, по-моему, убеждению, лучшей половины! Поэтому я категорически против некоторых эпатажных зонгов в дипломном спектакле, особенно зонга о власти. В пьесе, нет какой бы то, ни было критики в адрес социалистического общества, а ваш зонг о «власти и народе» работает на тех, кому присущи политический скептицизм и фрондерство. Подумайте, и откажитесь от него. Полшага назад вас не умалит, спектакль ничего не потеряет, а вы не попадете под удар «придворной» критики. Поймите, то, что вы сделали, убедительно. Разумно ли рисковать успехом, ради «брошенных костей» толпе?
Кумир внимательно выслушал ректора и, очаровательно улыбнувшись, ответил:
— Под вашим давлением после показанного отрывка я уже кое-что поменял.
Впервые, он применил с этим близким человеком, в спектаклях которого когда-то играл и кому был обязан карьерой, лукавую чистосердечность, как своего рода фирменный знак, соответствующий его новому положению.
— Скажу вам по секрету, эти тексты получили одобрение у прогрессивной части Политбюро. (Кумир блефовал, по настоятельной просьбе его жены один из членов Политбюро еще только собирался придти на спектакль.) — Поэтому бояться нового 37 года нам с вами, уважаемый Борисович Евгеньевич, не стоит. Самое страшное – позади!
На эту тираду ректор пожал плечами, еще больше покраснел и грустно улыбнувшись, ответил:
— Неужели к старости наше Политбюро полюбило такую поэзию: «власть исходит от народа, но куда она приходит»? Знаю, что в КГБ давно интересуются поэтами и художниками. Вспомните, мой дорогой, как они буйствовали на выставке в Манеже. Но чтобы Политбюро это могло приветствовать – не верю!
Кумир и в этом случае промолчал — у него было чувство, что его спектакль застрахован самим господом Богом.
Видя, что разговор не получается, ректор язвительно заметил:
— Ну что ж! Вам и вашей очаровательной жене, по всей видимости, виднее, что сегодня ценится в Политбюро. Будем считать, что я вас в целом предупредил. Пользуясь правом ректора, категорически требую от Вас изъятия из спектакля этой песенки. И еще: у вас там в оформлении условное дерево из планок. С таким деревом спектакль не пойдет. Если вы не сделаете дерево более реалистичным, я допустить этого не могу.
— Я прошу подсказать, как это сделать?
— Ствол заклейте картонкой. Нарисуйте кору дерева.
Примите это как официальное мое распоряжение.
— А можно я пущу по стволу муравьев? – с голливудской улыбкой спросил Кумир.
— Уйдите из моего кабинета! – крикнул взбешенный ректор.
Режиссер вежливо откланялся, но выходя, сам себе сказал: «Ну что ж, у кого какая судьба. А у меня судьба такая: все время отбиваться».
Забегая вперед, заметим, что дальновидный и неглупый Борис Евгеньевич с первых бесед понял, на какую роль готовится «порядочными политиками» Кумир в ближайшее десятилетие.
Ученики и учителя
В тот день, после показа дипломного спектакля, Анатолий Васильев и Борис Хмельницкий – авторы музыки и участники спектакля, неожиданно окликнули Виктора Самойлова, своего сокурсника, толкавшегося в толпе восторженных зрителей.
— Витя, пошли, пошли…Мы тебя познакомим с шефом, — взволнованно заговорили они, перебивая друг друга. — Ему обещают театр. Его друзья вышли на самые верхи, — шепнул на ухо Самойлову Хмельницкий. — Поэтому тебе не придется ехать для показа в Ленинград, — подключился Васильев, — останешься в Москве и будем работать вместе.
Именно в тот день Самойлов впервые познакомился с Кумиром. Разговор был коротким, но благодаря стараниям сокурсников, дружеским и обнадеживающим.
Позже ребята передали Самойлову, что режиссеру он понравился и что тот обещал обязательно придти посмотреть его в дипломных спектаклях.
Между тем слава спектакля «Добрый человек из Сезуана» разрасталась. Вскоре спектакль по пьесе Брехта был показан в театре Вахтангова. На этот раз его ожидал триумф. Дошло до того, что огромная толпа народа снесла входную дверь. Коммерческий директор театра, усмиряя зрителей, кричал:
— Не ломитесь, всех пустим!
Участники спектакля были ошеломлены восторженным приемом. Сцены с безработным летчиком, мечтающим летать, и непременно состоятся как личность, проходили под бурные аплодисменты. Зонги принимались на «ура»!
Сам Вахтанговский театр в это время был на спаде и вынужден был, нередко гастролировать. Кумиру приходилось из провинции узнавать по телефону, как идет его спектакль в родном театре. Коллеги по театру шептались, незаметно выпивая «с наперсточек» в провинциальном буфете:
— Мы гастролируем, а какой-то дипломный спектакль Щукинского училища не только собирает полный зал, но и весь цвет театральной столицы. Куда смотрит дирекция? Как мы будем после Юркиных студентов играть в Москве?
Прошел слух, что после одного из спектаклей, через правительственный выход Вахтанговского театра, в сопровождении коммерческого директора театра, и группы помощников вышел член Политбюро А.И. Микоян и, обращаясь к сопровождающим, сказал:
— О! Это не учебный спектакль, это не студенческий спектакль. Это будет театр, и весьма своеобразный.
Такое мнение высказывалось уже не впервые: нечто подобное, по просьбе Кумира, для прессы высказал и Андрей Вознесенский, пожелавший воспитанникам Любимова на основе этого спектакля создать новый театр.
Кумир с трудом вырвался из гастролей и появился в Вахтанговском театре на одном из последних спектаклей, сыгранных его учениками. После окончания ему устроили овацию. Он раскланивался, принимал поздравления, позировал фотографам, давал короткие интервью журналистам, неумело теоретизировал (он и в зените славы признавался, что не теоретик, а практик) и при этом улыбался своей фирменной улыбкой.
– По Москве идет упорный слух, что вам дадут театр? Это правда?– спросила красивая и энергичная девушка с телевидения. – Говорят, что вы этим спектаклем начнете новую жизнь на Таганской площади, в театре Драмы и Комедии? Что вы молчите?
Кумир не хотел отвечать на этот вопрос и, как правило, говорил по заранее изобретенной схеме:
— Спрашивайте у тех, кто вам об этом говорил. Я могу сказать только одно: театр должен искать новые формы, что мы и пытаемся сделать. А в остальном, наш коллектив следовал за Брехтом, который учит: блюди форму – содержание подтянется.
– С Брехтом все понятно, но сегодня очевидно и другое, вы подражаете эстетике Мейерхольда? – продолжала задавать вопросы красивая тележурналистика.
-А вы видели спектакли Мейерхольда? – с очаровательной улыбкой спросил Кумир.
— Нет, конечно. Но я многое читала о Мейерхольде, мне о нем рассказывала бабушка.
— Когда?
— В детстве, конечно.
— Передайте вашей бабушки мои поздравления.
— Я с удовольствием передам, но вы уходите от вопроса: вы все-таки подражатель или экспериментатор?
— Я, девушка, гомосапиенс. Как и мои предшественники, я стараюсь напомнить этим дипломным спектаклем, что кроме театра социалистического реализма, в нашей стране существовали и, надеюсь, будут существовать и другие направления. Подобные работы, это не эксперимент, это наша русская театральная палитра. Используя её, больших успехов добивались многие, в том числе и Мейерхольд, Таиров, Вахтангов… Откровенно вам сознаюсь, что в одно время с вашей бабушкой, многое из того, что делали эти режиссеры, я видел… Вам, сколько лет, красавица?
Девушка смутилась и, потупившись, буркнула:
– Двадцать.
— А мне сорок пять и родился я в семнадцатом году. В тридцать седьмом мне было почти столько, сколько вам. Я видел спектакли Мейерхольда. Поверьте, ему подражать невозможно, он был гением. А вот продолжить его поиски — можно и нужно. Но при одном условии — свободе, когда власть не требует, чтобы театр походил только на одно лицо.
— На какое лицо? — с неподдельным вниманием воззрилась девушка на Кумира.
— На лицо Московского Художественного театра.
На фоне этой фразы за его спиной раздался голос:
— И чем же это вам так не по душе этот театр?
Кумир оглянулся – перед ним стояла его собственная жена. Сегодня она была, как никогда хороша. Вздернутый носик был гордо нацелен на мужа, бирюзовые глаза излучали тайну, которой она спешила поделиться. Весь её облик свидетельствовал, что лучшими годами у женщины бывают её сороковые.
— Дорогой мой, машина у «служебного входа», нам надо срочно быть в одном месте. А вы девушка, пожалуйста, отпустите нашего режиссера, его ждут очень важные люди.
За углом Кумир сел в «Волгу» жены и, повернув на Арбатскую площадь, машина остановилась.
— Юра, в понедельник в 15 часов тебя ждут в Управлении культуры. Вопрос о твоем назначении главным режиссером театра Драмы и Комедии решен.
Он на секунду закрыл глаза, словно его ударили этим сообщением, а затем схватил в объятия жену и стал её целовать. Прохожие узнавали их за окнами автомобиля и иронично славословили. Рядом было кафе, и они нырнули подальше от назойливых глаз. Но и там их не оставляли в покое. Видно было, как завсегдатаи Арбатской площади жадно обсуждают пристроившуюся за окнами кафе знаменитую парочку. Один из репортеров, возвращавшийся из театра, в наглую подошел к окну и стал щелкать затвором фотоаппарата. В этот момент Кумир с полными глазами слез заканчивал свой тост.
— Ты всегда для меня, Люся, была не только женой, но и талисманом. Я был уверен, что ты мне принесешь кроме любви, счастья и дома, нечто большее, ты повернешь мою судьбу … Он замолчал, подыскивая слово. Но вдруг она легко его нашла:
— К славе, дурачок. Я повернула твою судьбу к Славе. Каким бы красивым ни был самолет, — сказал один французский летчик, — но пока те, кому нужно, не увидят, как он летает, он остается всего лишь экспонатом. Вот так! Не забывай это, Юра! Впереди у тебя большая жизнь в новой профессии, которая прощает все, кроме одного, — неверности!
Театральное «Подворье»
После обеда Борис Иванович Рудаков — начальник Управления культуры Москвы, любил заглянуть в комнату отдыха. Сделали её по его инициативе и назвали — «Курилкой». И действительно, большинство сотрудников Управления забегали туда покурить, но некоторые шли по назначению – поиграть в шахматы. Все знали страсть начальника к этой игре и старались попасть в число его соперников.
Сейчас, подходя к «Курилке» он вспомнил о Викторе из «театрального отдела», которому на прошлой неделе проиграл «ферзевый гамбит».
«Если он здесь, быстро надеру мальчишку и к трем пойду на встречу» — решил Рудаков.
— Пономаренко, — окликнул он подчиненного, который только что закончил игру в блиц с одним из сотрудников.
— Виктор, идите сюда, — показал на свободный стол Рудаков. — Давайте по-быстрому – матч-реванш. На прошлой неделе я сделал на восемнадцатом ходу ошибку – теперь этому не бывать, держитесь.
— Какой «ферзевый гамбит» будем играть? — самоуверенно спросил молодой человек, принимая вызов руководителя и, устраиваясь напротив.
– Какой получится. Лучше тот, что из матча реванша Михаила Ботвинника с Талем.
— Там, кажется, была жертва, Борис Иванович?
— Я тебе дам жертву! – с симпатией, на «ты», огрызнулся Рудаков.
У меня жертвой будешь ты, голубчик. Виктор улыбнулся и быстро расставил шахматы. Оба довольно четко сделали первые ходы и вдруг Рудаков надолго задумался.
Вспомнив, что у него вскоре встреча с Кумиром, между прочим, спросил:
— Виктор, вот ты из нашего театрального отдела, а «Доброго человека» Брехта видел?
— Смотрел, — просчитывая ходы, ответил соперник.
— Ну и как?
— Вполне.
— Вполне? Это что, театроведческая оценка или название статьи?
— Борис Иванович, все гораздо проще: бороться с Советской властью аллюзиями на чужом материале – «власть исходит от народа, но куда она приходит», это одно, а вот сделать это на родном материале – «Прощай немытая Россия, страна господ, страна рабов» — не каждому дано — кишка тонка. У нас юбилей Лермонтова на носу, а ставить его некому.
Рудаков поднял глаза от доски, и внимательно посмотрел на молодого человека.
«Кого вырастили, — мелькнуло в голове, — вот оно, новое поколение театроведов-аптекарей, научились для галочки дозировать лозунги и ничего в советской России не любить».
Рудаков хмыкнул и опять уставился на доску.
Неожиданно, он заметил, что теряет качество. Настроение его мгновенно испортилась, он понял, что снова допустил ошибку. Кряхтя и криво улыбаясь, он сделал «жертву» и вытер платком лицо. Но партнер ответил совсем неожиданно, не заметив выигрышной позиции. Рудаков стал наращивать успех, настроение изменилось, и соперники, увлекшись, потеряли контроль над временем. Очнулись оба, когда к ним подошла секретарь Рудакова.
— Виктор Сергеевич, — резко обратилась она к театроведу, — между прочим, обед давно закончился.
Борис Иванович, — другим тоном обратилась она к Рудакову, — вы просили напомнить о встрече в 15.00
— Да-да, помню, — бросил тот, не отвлекаясь от игры.
— Гость нервничает, даже ругается. Звонил кому-то и, кажется, жаловался.
— И кому это он жаловался, господу Богу? — не отрываясь от шахматной доски, спросил Рудаков.
— Микояну.
— Что?
Рудаков поднял голову и внимательно посмотрел на свою секретаршу, не сошла ли та с ума. Какому Микояну?
— Главному.
— Откуда ты знаешь?
Секретарша нагнулась и стала шептать на ухо:
— Он попросил разрешения позвонить по телефону, и я отчетливо слышала как во время разговора, прозвучало: «Анастас Иванович, у них здесь бардак. Назначили встречу и никого нет».
Рудаков взглянул на часы, сделал недовольную гримасу и тихо сказал:
— Идите, сейчас я закончу совещание и приду.
— Какое совещание, он знает, что вы играете в шахматы.
— Откуда? – удивился Рудаков.
— Сказал, что вся театральная Москва знает, что во время обеда у нас в управлении играют в шахматы.
— Тоже мне, Вольф Мессинг, — буркнул он себе под нос. – Идите, Альбина Александровна. Скажите, что я сейчас буду.
Рудаков, медленно вставая, сделал еще два хода и с победной интонацией заявил:
— Остальное, Виктор, дело техники. А ты говоришь, — «страна рабов, страна господ».
— «Страна господ, страна рабов», — поправил театровед.
— В хорошем спектакле, Виктор, два минус один – ничего, а один плюс один – это любовь. Понял? До свидания.
Поднявшись на второй этаж, Рудаков подумал, что неплохо было бы пригласить зама, но решил, что это преждевременно, надо поговорить с глазу на глаз.
Кумира он знал в большей степени по кинематографу. В театре — помнил по юношеским впечатлениям в спектаклях: «Первые радости», «Молодая гвардия», «Егор Булычев» и другие».
— Так себе, неплохой актер, — думал он, направляясь к кабинету. — Может быть даже хороший, но ведь, не Гриценко – вспомнил он своего любимца из вахтанговцев. «Циля» у него, баба — Кассандра. Весь шухер она ему сделала. Вот и Микоян, по старой дружбе с покойным мужем актрисы, главным архитектором Москвы Алабянам, стал на старости лет театралом. Что день грядущий нам готовит с этим режиссером? – до самого кабинета не переставал себе задавать вопросы начальник Управления культуры РСФСР. Но с другой стороны явно просматривались и положительные моменты вокруг этого назначения: во-первых, удалось не допустить на должность главрежа критика «Данилыча». Так про себя чиновники звали театроведа Евгения Суркова. Во- вторых, положительно то, что новый директор – Николай Дупак — готов с Любимовым работать и затеял большую реорганизацию театра. Рудаков вспомнил, как после просмотра в «Доме кино» спектакля «Добрый человек из Сезуана», к нему приехал Дупак и стал агитировать за Любимова.
— Странный этот Дупак, — думал Рудаков, — вроде фронтовик, смекалистый человек, а романтик. Видно же, что этот Любимов достанет его до печенок. «Ну да ладно, будем прикрывать зятя Чапаева от «вахтанговского Капеля», может, и сработаются» — примирительно подумал Рудаков.
Словно угадав настроение Рудакова, Кумир встретил его очаровательной улыбкой, «по стойке смирно» и с небольшим поклоном.
— Простите меня, Юрий Петрович, — любезно начал Рудаков — в обед я иногда…
— Задерживаетесь, — подхватил Кумир. — Играете в шахматы. Знаем. Не обижайтесь, но это намного лучше, чем писать доносы, как это делали ваши предшественники.
Рудаков без удовольствия выслушал неожиданный комплимент, но не ответил, а прошел за стол. Работа его научила иногда молчать, чтобы собеседник лучше понял свою промашку. Громко потребовав от секретарши чаю и бубликов, начальник основательно сел в кресло.
— Завидую, Борис Иванович, — не унимался Кумир, обиженный, что столько пришлось ждать.
— Чему завидуете? – с недоумение спросил Рудаков.
— Я ведь долгие годы без обеда: утром репетиция, в обед подработки, вечером спектакль, только лишь в выходные и обедаю, да и то – чаще всего в ресторане. Хотя жена у меня — повар замечательный.
— Успокойтесь, Юрий Петрович, и садитесь, — указывая на кресло, сдержанно сказал Рудаков. Как говорил поэт Георгий Иванов: «Перед тем как замолчать, надо поговорить».
— Смотрите, каким остроумным был этот господин, — отозвался Кумир.
— А разговор у нас с вами будет долгим.
— Весь внимание, Борис Иванович.
— Как идет спектакль «Добрый человек из Сезуана»?
— Хорошо. Играем, где приглашают. Вот играли в Дубне. И ученые хотят нас пригласить навсегда, открыть у них театр.
— Ну, да, так ты и пойдешь в Дубну, за тридевять земель от Москвы, — промелькнуло в голове Рудакова.
— Мы открыли хороший социалистический почин, выступаем в клубах заводов.
— Как принимает социалистический почин пролетариат?
— Лучше, чем интеллигенция, больше здравого смысла.
— Чем лучше?
— Меньше выпендриваются. Всё понимают, хотя, как известно, университетов не проходили.
— А что ректор Захава? По-прежнему сердится?
— Все что из его замечаний я принял, мы выполнили. Остальное, с моей точки зрения, идет в ущерб спектакля. Полемика с учителем закончилась.
— Правильно ставите вопрос. Мы вас поддерживаем. Когда он с Рубеном Симоновым делил театр, вы, на чьей стороне были?
— Мы с женой были на стороне Симонова.
— Но ведь если не ошибаюсь, вы были актером Захавы?
— Да, был.
— А почему на другой стороне оказались?
— Вам это интересно? Исследуете химию предательства?
— Упаси меня бог, Юрий Петрович.
В этот момент секретарь внесла чай с бубликами, дежурно улыбнулась Кумиру и очень грациозно закрыла за собой дверь. Оба взяли по стакану чаю и вежливо уставились друг на друга.
Размешивая ложкой сахар, Рудаков заговорил первым:
— Дорогой Юрий Петрович, раз уж мы с вами встретились, хочется поговорить откровенно. Может, отключить телефон, чтобы вы чувствовали себя свободнее?
— Нет, не надо. Я много лет работал ведущим в ансамбле у Берии, там одни телефоны отключали, а другие подключали. От волнения во время концерта пукнешь, на завтра все знают и объявляют выговор. Но раз уж мы решили говорить откровенно, тогда ответьте на мой вопрос: вы зачем меня вызвали?
Рудаков странно покачал головой слева направо, глубоко, через нос вздохнул и, подвинувшись ближе к собеседнику, ответил:
— Есть предложение, назначить вас главным режиссеров театра Драмы и Комедии. И поскольку мы с вами знакомы не близко, я хотел о вас побольше узнать. А лучше всего человек раскрывается в минуты роковые.
– Понял. Буду знать, что полчаса ожидания в вашем предбаннике это — минуты роковые. Итак по существу вашего вопроса: Рубен Симонов был в ту пору как режиссер лучше, чем Захава. Но в благодарность за то, что мы с женой его поддержали, он вскоре уволил меня с должности заведующего труппой. Римский способ — убрать тех, кому обязан властью.
— Это я знаю. Вы жалеете об этой работе?
— Мой девиз: не оглядывайся назад – красное колесо не прощает, завтра будет совсем другой день.
— Но вам было обидно, что с вами так поступили?
— Нет, это не то слово. Не предаю сам, и не терплю тех, кто подобное оправдывает, какими бы то ни было обстоятельствами.
— Вы знаете, что двое из ваших ребят, участников спектакля, написали на вас донос, что вы репетируете не по системе Станиславского?
Кумир резко отстранился от кресла, опустил голову и сквозь зубы сказал:
— Я догадывался. Но прошу вас, не говорите, кто это написал! Сейчас мне некого ввести, а с другой стороны – надо подождать, может быть извинятся. А если нет, я этих «пасюков» сам найду.
— Тогда перейдем к следующему вопросу, дорогой Юрий Петрович. Рудаков достал из папки лист бумаги и сообщил: вот приказ о вашем назначении главным режиссером театра Драмы и Комедии. Я должен его подписать. Готовы вы работать в этом театре? Знаете ли вы его?
— Этот театр я, к сожалению, знаю плохо. Работать готов, об этом я говорил директору этого театра Дупаку, с которым мы нашли некоторые точки соприкосновения. Так вот, повторяю, работать готов, но при определенных условиях.
— Ах, даже так? И при каких же условиях?
Кумир достал из внутреннего пиджака лист бумаги и передал его Рудакову.
— Здесь тридцать пунктов, которые необходимо выполнить, чтобы создать новый театр.
Глаза Рудакова округлились, он раскрыл поданный лист, скользнул глазами по нему и, пригладив большой рукой густую седину, сказал:
— Нужен целый синклит специалистов, чтобы изучить ваши пункты. Но поскольку у нас таких специалистов, кроме одного, максимум двух, нет, то это дело может затянуться на полгода. Поэтому давайте так, мы это изучим, а сейчас прямо ответьте на самый важный вопрос, что будете делать с труппой?
— Гнать!
— Так. Всех или частично?
— Поймите, Борис Иванович, если я приду туда один, я погрязну в дрязгах старой труппы. Они меня перемелют и обратят в фарш. Поэтому все надо делать сначала, начинать с нуля.
— Вполне возможно. Тогда у меня вот какое предложение: не гнать, а по-человечески, в короткий срок трудоустроить. Вот бывшего главрежа Плотникова мы уже трудоустроили. Стариков постараемся отправить на пенсию, а такие актеры, как Махова, Ронинсон, Додина, Смирнов, Смехов не исключено, что могут пригодиться.
— Принимается, но мне нужно твердое ваше слово, что в штат театра примут десять моих актеров.
— Хорошо, это условие принимается.
Рудаков снова посмотрел в переданный Кумиром лист и, улыбнувшись, заметил:
— А вот на зарплату вы зря обижаетесь. 300 рублей – это вполне приличная зарплата.
— Я вместе с подработками сейчас все 600 рублей получаю.
— Юрий Петрович, есть определенная ставка, установленная приказом. Если другие узнают, что за один, полный аллюзий и фрондерства спектакль, Рудаков назначил новому главному режиссеру ставку – 500 рублей — у меня все главрежи взбунтуются. Вам это нужно?
— Хорошо, согласен. Только не совсем понял ваше мнение о спектакле. О каких аллюзиях идет речь. Я играю по тексту Брехта. А перевод Юзовского утвержден Главлитом.
— Дорогой Юрий Петрович, мы же здесь одни. Чего друг перед другом кокетничать и играть словесными штампами. Текст на бумаге — один, а на сцене – всё звучит совсем по-другому: сделаны соответствующие акценты, подчеркнуты крупным планом мысли, обращение напрямую в зал — принцип брехтовского отчуждения — и вот картина уже совсем другая.
И тут Рудаков вспомнил недавний разговор с театроведом Виктором за партией в шахматы.
– Ведь что говорят некоторые театроведы, — с улыбкой продолжил он, — гораздо проще бороться с Советской властью на чужом материале – «власть исходит от народа, но куда она приходит», чем сделать спектакль на родном материале – «Прощай немытая Россия, страна господ, страна рабов». Это не каждый умеет. Вот бы вы взялись с вашим-то талантом и острым чутьем времени, например, ставить Лермонтова? Ведь его юбилей на носу, это было бы событием тянущим на Госпремию. Под это мы бы многое для вас сделали. Подумайте, вдруг что-то вас осенит, и к «Доброму человеку» вы добавите…
— «Героя нашего времени» — воскликнул Кумир.
— Я давно мечтаю об этой работе.
— Ну вот, мечта может осуществиться. Значит так, вы оставляете мне ваши тридцать пунктов, я при вас подписываю приказ и договариваемся, что вы приступаете к постановке юбилейного спектакля «Герой нашего времени».
Рудаков подписал бумагу, режиссер потянулся за приказом, но Рудаков аккуратно положил его в папку.
— Езжайте в театр, знакомьтесь с труппой, и переносите свой спектакль на новую сцену. У театра много долгов, но вас ждет энергичный директор, с которым, уверен, вы решите все вопросы. Он знает о вашем назначении и очень его поддерживает.
— Да, мы неоднократно встречались с Дупаком в «Доме актера».
— Знаю, мне директор «Дома актеров» Эскин докладывал. Постарайтесь работать дружно. Счастливо, дорогой Юрий Петрович.
Рудаков встал из-за стола, пожал крепко руку своему визави и, когда тот вышел, сказал вслух:
— Вот поставишь нашего Лермонтова, тогда я в тебя поверю и без звонков Микояна и рекламы в «Правде» Константина Симонова.
В поисках «радости»
В весенние каникулы четверо студентов Щукинского училища поехали показываться в ленинградские театры для устройства на работу. Удалось договориться о просмотре в БДТ им. Горького и в театре «Комедии». Так получилось, что показ был назначен на один день, но в разное время. После двух надо было быть в БДТ, а к вечеру, после начала спектакля, им предстоял показ Акимову в театре «Комедии». Все четверо боялись, что не хватит сил, и поездка провалится.
Труднее всех было Людмиле Животовой. После БДТ, ей надо было к пяти успеть еще и в театр Комиссаржевской. У нее был отрывок, в котором ей подыгрывал местный актер, с ним они готовились к показу еще в Москве.
В БДТ приехали за полтора часа. Их провели в большую гримерку, где по очереди все переоделись. Отрывки были разные, с учетом индивидуальности каждого. За полчаса до показа их привели в небольшой репетиционный зал. Рабочий сцены, выслушав просьбы, приготовил выгородку. Казалось, все складывается лучшим образом — их увидит сейчас сам Товстоногов. Это одно уже делало поездку не напрасной — появлялась надежда попасть в знаменитый театр. Но всех участников не покидало одно чувство – кому они здесь нужны? Еще по дороге, проходя фойе, они увидели галерею фотографий артистов театра и – сникли — что ни лицо, то знаменитость.
Когда появился Товстоногов в сопровождении завлита и завтруппой, соискатели пришли в такое волнение, что готовы были провалиться сквозь землю. А вот кому волнение шло на пользу, так это Виктору Самойлову. Он играл с Володей Насоновым отрывок из «Идиота» Достоевского, знаменитую сцену обмена крестами Рогожина и Мышкина. В этой сцене волнения хоть отбавляй, поэтому решили, что отрывок из «Идиота» пойдет первым.
Долго ждали, пока Товстоногов выкурит сигарету. Он курил и что-то говорил рядом сидящим дамам. Виктору показалось, что голос знаменитого режиссера булькает, словно в горле у него был барабан.
— Ну, что, можно начинать? – сказал басом Товстоногов и погасил сигарету. Люся Животова вышла на освещенное место и, сбивчивым от волнения голосом, объявила:
— Начинаем показ студентов четвертого курса Щукинского театрального училища. Художественный руководитель – Анатолий Борисов.
Рывком набрав воздух, она продолжила:
— Достоевский, отрывок из романа «Идиот». Затем она стала объявлять исполнителей: Рогожин – Владимир Насонов. Люсе нравилось, как Самойлов играет Мышкина, поэтому она перестаралась, набрала снова воздух и поставленном голосом объявила: в роли «Идиота» — Виктор Самойлов.
Дамы за столом прыснули со смеху, а Товстоногов с улыбкой переспросил:
— Кто в роли князя Мышкина?
Люся поняла свой прокол и в свойственной себе манере «лепить правду» сказала:
— Волнуемся, товарищ Товстоногов, в роли князя Мышкина, мой замечательный сокурсник Виктор Самойлов.
Странно, но эта комическая накладка пошла на пользу.
Когда Самойлов вышел на сцену, он боковым зрением увидел, как за столом все потянулись вперед и замерли. Посмотрев в глаза Насонова – Рогожина, Виктор не заметил и у него никакого излишнего волнения, все было, как в Москве, на сцене «Щуки». Отрывок играли так близко от зрителей, что Самойлов отчетливо слышал сипловатое дыхание Товстоногова. По этому дыханию можно было определить, как идет отрывок. В сцене обмена крестами, дыхание и вовсе исчезло, но потом стало учащенным и даже взволнованным.
Когда отрывок закончился, Алиса Чернова стала читать монолог Аксиньи из «Тихого Дона», а ребята бросились переодеваться для другой сцены.
— Ну что, кажется, получилось? Георгий Александрович смотрел — выкатив глаза, как будто забыв о том, что у него есть Кеша и Лебедев, —
уверенно бухал Насонов, переодевая рубашку.
— Он сопел в носокрутки и даже ни с кем не советовался.
— И мне кажется, что все прошло, лучше, чем всегда — согласился Самойлов.
— Лучше, чем всегда? И это ты о собственном творчестве! Брось, ты был в таком ударе, Витька, что я просто завидовал. Когда у тебя покатились слезы, я чуть сам не расплакался. Сдержался. Рогожин не плачет, у него обливается сердце кровью. Насонов на секунду прислушался и вдруг завопил: бежим, кажется, Алиска заканчивает.
Они успели вовремя. Вначале сыграли отрывок «Оглянись во гневе», из Осборна затем девочки показали танец, а Виктор прочитал на французском языке монологи Сида из трагедии Корнеля. Когда показ закончился, все большой группой направились к кабинету Товстоногова.
Режиссер с помощниками ушел к себе, а вся щукинская четверка осталась ждать в секретариате. Люся быстро начала «сходить с ума» – то и дело спрашивала у всех, который час. Ей надо было успеть в театр Комиссаржевской. Пауза была долгой, пока завтруппой не позвала в кабинет Виктора Самойлова. Но не прошло и минуты, как тот вышел. Все с удивлением уставились на него.
— Что, мимо? – спросила Алиса?
— Нет, я просто сказал, что Люся торопится, и чтобы первой пригласили её.
Дверь кабинета приоткрылась, и послышался голос:
— Людмила Животова, пройдите, пожалуйста.
Минут через пять Люся выскочила из кабинета и, на ходу поцеловав Виктора, выпалила:
— Спасибо! Остальное потом. И, схватив свой реквизит, помчалась на выход. Затем для беседы позвали Алесю Чернову и Владимира Насонова.
Прошло довольно много времени, прежде чем они вышли из кабинета. На глазах у Алисы были слезы. Она сморкалась, вытирала глаза и обиженно поскуливала.
— Раздолбил Осборна, как драматурга, — сорванным голосом пожаловалась она Виктору, — говорит, что в драматургии «нет мотиваций», автор увлечен эмоциями, вместо того, чтобы выстроить жизненную логику. Не знаю, что говорить Паламишеву. Расстроится… Володьку похвалил за фактуру, но говорит, таких у него сколько угодно. Назвал Луспекаева, Волкова… Господи, так мечтала сюда попасть и — на тебе! Она уткнулась в могучую грудь Насонова и еще сильнее расплакалась. Тот прижал её голову, и глаза его потеплели.
— Обо мне что-нибудь сказал? – спросил Самойлов.
— О тебе ни слова: ни плохо, ни хорошо! Никак! Чего ты Люську проталкивал, она вильнула хвостом и договорилась, что приедет для разговора завтра до спектакля.
— А мне кажется, что ты ему понравился, — подключился к разговору Насонов, — когда он говорил об истории с ножом, сказал, что я «педалирую на тему ножа», а ваш партнер этого не делает. В общем, кажется, что ты ему понравился.
Вдруг из кабинета вышел Товстоногов и, учтиво кивнув всем, обратился к Самойлову.
— Виктор, вы, надеюсь, не торопитесь?
— Нет, а что? – удивился Самойлов.
— Вы французский хорошо знаете?
— Конечно, иначе я не смог бы сыграть Сида.
— Я это почувствовал. Ваш Сид был хорош. Но мы хотим сейчас воспользоваться вашим знанием языка. Возможно это?
— Пожалуйста.
— К нам приехали гости из «Комеди Франсез», а переводчик по пути к нам сломал ногу и пока появится замена, я хочу воспользоваться вашей помощью. Вы согласны?
— Конечно.
— Попрощайтесь с вашими товарищами и пойдемте в наш актерский буфет.
Самойлов повернулся к Володе и Алисе и, показав на свой рюкзак, попросил:
— Володя, возьми рюкзак в «Октябрьскую», как только я освобожусь, тотчас приеду.
Товстоногов взял Самойлова под руку, и они вместе с завлитом пошли на встречу. Заведующая труппой посмотрела вслед Самойлову и с радостью воскликнула:
— Какой талантливый мальчик, — затем, повернувшись к оставшимся ребятам, бесцеремонно бросила:
— Пойдемте, я вас провожу на выход.
Театр есть искусство отражать
За сто метров от театра Драмы и Комедии Кумир остановил свой «Москвич» и пошел пешком. С угла театра по-мальчишески стал мерить шагами метраж постройки – больно маленьким показалось здание театра. Видно сработала хозяйская жилка еще деда Захара, имевшего под Ярославлем большой дом и отменное хозяйство. Шаги привели к Главному входу. Около мемориальной доски в честь выступления Ленина, Кумир остановился. В памяти неожиданно всплыли похороны Ленина. Морозная Москва, толпы народа и он – семилетний мальчик, с братом Давидом в этой гуще. Дома их ругал отец, долго оттирала замершие щеки мама.
Вдруг кто-то его окликнул. Январский наплыв 1924 года улетучился и, обернувшись, он увидел директора театра Николая Лукьяновича Дупака – красивого высокого мужчину, в прошлом вполне успешного актера и парторга театра Станиславского, неожиданно для многих ставшего директором театра.
— Юрий Петрович, здравствуйте, — радушно приветствовал Кумира директор. — Мне позвонили из управления, что вы едете, вышел вас встречать к служебному входу, а вы оказались — у Главного. Символика прямо- таки! С парадного подъезда решили в театр войти?
Тогда, пожалуйста, откроем. Добро пожаловать.
— Да нет, Николай Лукьянович, спасибо. А вот символика, согласен, присутствует. Я здесь на Таганке учился в ФЗУ. Тут еще тюрьма была. Вон, там! Он показал рукой, где была Таганская тюрьма. Получается, что все по кольцу замкнулось: в четырнадцать лет я здесь учился, а в сорок пять лет вернулся руководителем театра. Господи сколько в этом районе шпаны было, ворюг и всякой нечисти. А потом, сломали тюрьму и сделали театр Драмы и Комедии. Все, как и положено в сказке. Но вот беда, на эту «сказку» сегодня, к сожалению, плохо ходят.
— Сегодня плохо, а завтра будут ломиться, Юрий Петрович.
— Ваши слова, да Богу в уши, Николай Лукьянович.
— Пойдемте, буду знакомить вас с коллективом. Все уже ждут.
— Подождите, Николай Лукьянович, пока не надо.
— Почему не надо, приказ подписан?
— Есть тридцать пунктов, которые я сегодня передал Рудакову. Мне обещали их выполнить.
— Надеюсь, я не уволен по этим пунктам?
— Все в порядке, – рассмеялся Кумир, — вы не в моей власти, Николай Лукьянович. Вы были и будете директором.
Они поднялись по лестнице и прошли на второй этаж, в кабинет Дупака.
— Юрий Петрович, я тогда пройду в зал, предупрежу тех, кто собрался, что вы пока не готовы с ними … разговаривать.
Директор пошел к двери, но Кумир его окликнул:
— Николай Лукьянович, это будет неправильно. Все узнают, что я был и почему-то не захотел встретиться с актерами. Нет-нет, так не годится! Пойдемте вместе, только я предупреждаю, что выступлю коротко, потому что, действительно, не готов высказать мнение, пока не утвержден план реорганизации театра.
Они спустились по лестнице, вышли в фойе и прошли в первую дверь партера. Народу было немного. Часть труппы и вовсе не знала о том, что театре появиться Любимов. Стояла тишина, словно на сеансе гипноза. Когда директор и главный режиссер вошли, раздались короткие аплодисменты. Руководители театра, молча, прошли на сцену. Кумир сел с краю за стол, а директор вышел на авансцену. Все присутствующие замерли в ожидании своего будущего. Дупак сообщил, что хоть приказ о назначении Юрия Петровича уже подписан, но у нашего главного режиссера есть ряд условий, высказанных Управлению культуры и пока не утвержденных. На встречу с коллективом, как видите, Юрий Петрович пришел, но о творческих планах театра будет говорить позже. Дупак обернулся к Кумиру и спросил:
— Я правильно излагаю, Юрий Петрович.
Кумир громко из-за стола ответил:
— Почти, но не совсем.
Он подошел к авансцене, любезно поздоровался и заговорил медленно и спокойно.
— Я не хотел встречаться с вами раньше времени, пока не будут выполнены предложенные мною тридцать пунктов. Я приехал незаметно посмотреть театр, но, узнав от директора, что вы собрались здесь, решил не скрываться и встретиться. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Раздались громкие аплодисменты, и сразу вновь наступила тишина.
— Вы не должны на меня обижаться, я человек прямой и говорю то, что думаю. С моей точки зрения, этот театр требует серьезной реорганизации: творческой, финансовой, строительной. Если все предложенное мною будет выполнена, мы соберемся поговорить и о самом главном – репертуаре, художественном направлении театра, о том, как сделать его интереснее и найти выход из того положения, в котором он оказался.
— Значит, мы можем пока идти в загул? – раздался голос из темноты, с дальних рядов. Зал мгновенно отреагировал:
— Прекратите! – крикнул кто-то из актеров. — Гордеев, кто безобразничает из твоих осветителей? – строго спросил Директор. И вдруг из темноты раздался спокойный голос:
— Уважаемый Николай Лукьянович, мы ждали, что к нам в театр придет новый главный режиссер, который нам поможет лучше работать, а, оказывается, пришел Константин Сергеевич Станиславский, чтобы нас разогнать по тридцати пунктам и предложить нам искать выход.
Вслед за этими словами, кто-то дал общий свет и все уставились на молодого актера, недавно принятого в труппу. Фамилия его была Котенков.
— Что вы себе позволяете, Котенков? — крикнул директор.
Котенков вжался глубже в кресло, и вызывающе улыбнулся.
Кумир подошел ближе к авансцене и негромко, глядя на Котенкова, сказал:
— Что вы лыбитесь?! Я найду выход, а вы – нет! После этих слов, Кумир сделал головой кивок Дупаку, и негромко добавил:
— Я буду ждать вас, Николай Лукьянович в кабинете. Он повернулся спиной к залу и пошел вглубь сцены, за кулисы.
Великий конкурент
В зрительском буфете БДТ в полном разгаре шел прием труппы французского театра «Комеди Франсез». Встречу начали позже назначенного времени. Гостей оказалось больше, чем рассчитывали, поэтому долго не знали, где её проводить.
В конце концов, решили перенести всё в зрительский буфет, и все равно места оказалось мало.
Звуковики оказались на высоте. Поставили записи Эдит Пиаф. То и дело в разных углах актеры обеих трупп, напевали: «Падам, падам, падам». В центре, за круглым столом сидело руководство обоих театров. Рядом был микрофон, по которому на французском языке отвечал на вопросы руководитель «Комеди Франсез» месье Божаром. Рядом с месье Божаром стоял Виктор Самойлов и старательно переводил речь гостя на русский:
— Впрочем, я, кажется, ответил на все вопросы. Спасибо молодому актеру театра БДТ, — господин Божаром повернулся к переводчику — Самойлову — и похлопал его по плечу, — что любезно выручил нас своим французским, правда, с небольшим славянским акцентом. Но прежде чем уступить микрофон, я хотел бы первым задать вопрос месье Товстоногову на своем, извините, несовершенном русском:
— Как вы делаете коллекцию труппы артистов вашего театра? Входит ли в обязанность ваших актеров такое превосходное знание языка наших драматургов Мольера, Расина, Корнеля?
Товстоногов подошел к микрофону и, оглядев из-под очков зал, заговорил своим характерным баском.
— Господин Божаром, вначале я отвечу на второй вопрос, потому что вы частично на него уже стали отвечать.
Товстоногов что- то пошептал Виктору и, получив согласие, вновь обратился к присутствующим.
— Вы похвалили вот этого молодого человека за знание французского языка. У нас в театральных вузах обязательно изучают французский язык. Должен вам сказать, что этот молодой актер, удостоившийся вашей похвалы, выпускник Щукинского училища – Виктор Самойлов, которого мы сегодня приняли в театр.
Раздались аплодисменты.
— Он превосходно играл Князя Мышкина в отрывке из романа Достоевского «Идиот». Но ничуть не хуже в его исполнении прозвучал и «Сид» Корнеля. Я только что попросил Виктора прочитать для наших гостей небольшой фрагмент из этой пьесы. Прошу вас, Виктор.
Все это время Самойлов был на пределе сил. Обстановка знаменитого театра, присутствие большого количества известных актеров, да еще гости прославленного французского театра, все было непривычно, словно во сне. Волнение было зашкаливающим, мешало переводу и хорошему самочувствию, образовавшаяся во рту корка. Мучило еще и то, что он может опоздать на следующий показ и подведет сокурсников. Когда Товстоногов попросил его прочитать из «Сида», он хоть и машинально согласился, но тут же, испугался, что не справится с волнением, так как в горле пересохло. Он лихорадочно взглянул, нет ли где-нибудь воды, но кроме шампанского на столе ничего не было. В отчаянии он протянул руку за бокалом шампанского, кем-то заранее налитым и пролепетал по-французски:
— За это надо выпить. Вспомнил, что надо перевести и добавил по-русски:
— В таком случае, я выпью.
Все присутствующие громко засмеялись и стали аплодировать. Виктор сделал большой глоток. Когда его обдало теплом, а аплодисменты придали уверенности, к его удивлению все стало получаться. Под бурные овации он прочитал финал стансов Сида. Когда все успокоились, Товстоногов внимательно посмотрел на присутствующих и громко сказал:
— Спасибо, Виктор. Вы молодец, не каждый, даже выпив шампанского, справится с волнением перед такой аудиторией. В зале снова раздались аплодисменты.
— Месье Божаром, я бываю нередко строгим к своим актерам, но я их люблю. Для меня это не только коллектив единомышленников, но это и моя гордость, труппа, которую я собирал десятилетия. Позвольте, уважаемые гости, я вам представлю мастеров Большого драматического театра имени Горького.
Виктор перевел все, что сказал режиссер и когда зазвучало: Татьяна Доронина, Сергей Юрский, Иннокентий Смоктуновский…- он отошел в сторону, где его перехватила завлит и познакомила с приехавшим на выручку переводчиком. Она попросила Виктора подождать, подвела нового переводчика к Товстоногову и, вернувшись к Самойлову, сказала:
— Спасибо вам, Виктор, вы большой молодец. Пойдемте в отдел кадров. По поручению Георгия Александровича, мы оформим на вас заявку в Щукинское училище. Поздравляю вас, руководство театра приглашает вас актером в труппу БДТ. На моей памяти такого необычного дебюта не было еще ни у одного из наших актеров.
Они направились мимо галереи фотографий актеров БДТ, а в спину им, откуда-то сверху долетал голос Товстоногова, продолжавший знакомить гостей с выдающейся труппой театра. После каждого имени раздавались аплодисменты.
Лирическое послесловие
От волнения и досады Любимов не сразу нашел кабинет директора. Без хозяина входить было неловко, и он сунулся в дверь напротив. В последний момент заметил табличку: «Главный режиссер». Оставив дверь открытой, он сел на ближайший стул и стал ждать директора.
То, что его так встретят, он не предвидел, ждал восторгов, а получил оплеуху. Про себя понял одно: «Видимо просочились его условия прихода в театр. Настучали о требуемых мною десяти актерских ставках. Не исключено, что сделали это мои же студенты, только они знали об этом. Как их после этого называть?» – выругался он про себя.
Припомнил определение актерам, данное Чеховым. Однажды знаменитый актер Павел Орленев, уткнувшись писателю в грудь, стал убеждать Антона Павловича, что актеры – это дети. В ответ Чехов пробурчал баском: «Да, вы, конечно, дети, но только — сукины дети».
Всплыло в памяти неосторожное обещание начальнику управления поставить «Героя нашего времени». «Подловил на душевном подъеме» — отметил он про себя. И тут же в голове начал крутиться спасительный план. Первое, что пришло в голову – нужно было привлечь Николая Робертовича. Он увидел вдалеке, стоящий на столе телефон и собрался позвонить, но в это время в коридоре показался директор.
— Юрий Петрович, — расстроенным голосом быстро заговорил Дупак, — а я испугался, что вы обиделись и уехали.
Дупак подсел напротив и продолжил:
— Не обращайте внимания, этот Котенков — отпетый негодяй. Актер он неплохой, но бестолковый и пьющий. Мы его ввели во многие спектакли, и он возомнил, что незаменим. Пойдемте в мой кабинет – выпьем чаю и, наконец, поговорим о наших планах.
Они прошли в кабинет. Дупак подключил самовар и поставил на стол тарелку с конфетами и бутербродами.
— Завтра я Котенкову объявлю выговор.
— К сожалению, Николай Лукьянович, этот актер выразил общее настроение. До сих пор здесь все было замечательно. Ведь как живет стационарный театр: режиссер ставит и тотчас труппа начинает рваться к главной цели: показать себя. Актерам наплевать на целое, на замысел… А тут какие –то перемены, новый режиссер… Даже японцы никому не желают жить при переменах.
— Не согласен, Юрий Петрович, все устали от Плотникова, который привел театр к творческому банкротству. Разве это Советский театр, где «Скандальное происшествие» Пристли – единственный спектакль, который делает сборы. Все остальные спектакли – половина зала вместе с солдатами. Так жить больше нельзя! Это понимают все! Не расстраивайтесь, Юрий Петрович, хотите я этого Котенкова завтра уволю?
— Не надо, он сам уйдет. Я с ним работать не буду. Мои условия — чтобы со мной пришли десять человек из «Доброго человека из Сезуана». Вы сможете это обеспечить?
— Я с вашими условиями согласен, но подскажите, как убрать из театра тех, кто многие годы отдал этому коллективу. Куда деть Ронинсона, Штейнрайха, Мартову, которая, кстати, просила меня дать ей возможность с вами поговорить? Все они хорошие актеры, многие имеют звания….
— Николай Лукьянович, во время работы над спектаклем у меня была сломана нога, мне приходилось вбивать костылем своим актерам ритм и они научились его чувствовать. Они сыграли «Доброго» и за один месяц стали звездами. Мне не нужны корифеи, театральные генералы на свадьбе, мне нужны исполнители. Мне необходимо в короткий срок создать репертуар, расплатиться с долгами и строить новый театр.
— Вы говорите «мне», а директор вам нужен? Или сами будете управлять театром.
— Мне нужны единомышленники. Добьетесь для моих актеров десять ставок — станете нужным, и у нас будет другой разговор. Поймите, я иду в этот театр не для удовлетворения чьих-то амбиций. Они должны знать — из меня фарш не получится! Мне трудоустройства в Вахтанговском театре по самое горло хватает.
Кумир хотел что-то еще добавить и про директора, и про его жену — внучку Чапаева, которая помогла сделать мужу карьеру, но не стал больше ничего говорить.
«Есть жены, которых богом приказано терпеть» — сказал он себе, а вслух выдавил:
— В общем, надеюсь, вы меня поняли.
Он взглянул в сторону закипающего самовара и понял, что пора уходить. — Извините, Николай Лукьянович, мне сейчас не до чая. Мне надо идти. Позвольте, я позвоню из другой комнаты.
Он прошел в соседний кабинет и закрыл за собой дверь. Кумир набрал номер Николая Эрдмана — известного драматурга и близкого друга.
— Николай Робертович, рад вас слышать. Какие новости? Есть. Я встречался с Рудаковым. Сегодня в три часа. Вначале полчаса ждал в предбаннике, а потом торговались. Я согласился ставить «Героя нашего временит». Я прошу вас Николай Робертович, сделать инсценировку.
Конечно, встретимся. Хорошо, я готов хоть завтра. Экспликацию? Можно и экспликацию.
В это время в дверь кто-то постучал. Кумир прикрыл телефон рукой и громко крикнул:
— Войдите!
На пороге появилась высокая красивая женщина лет тридцати пяти. Рассыпанные по плечам длинные вороные волосы, тонкая шея с родинкой под подбородком, большие глаза делали ее похожей на какую-то экзотическую птицу. На ней был модный темно-синего цвета брючный костюм, хорошо подчеркивающий фигуру, глаза ее горели, улыбка была ослепительной, а глаза – темные и решительные смотрели на Кумира с нескрываемым восхищением. Это была известная актриса Мартова, о встрече с которой просил директор. Оказывается, Кумир совсем не заметил, что в дверях кабинета оставлен ключ. Мартова быстро заперла дверь и уселась, словно орлица, напротив, чуть ли не на двух стульях.
— Юрий Петрович, простите меня за такое бесцеремонное вторжение, — шепотом заговорила она, — но я пришла вам рассказать, что они против вас задумали.
Битва за место
В театре Комедии выпускников — щукинцев встретили необычайно любезно. Выделили две гримерки, представили актера, который их объявит. Когда в репетиционном зале появился Акимов и спросил, готовы ли мои любимые щукинцы для показа, студентам сразу стало легко. В этом театре они решили изменить порядок показа: вначале сыграли Осборна и все остальное, и только в конце Достоевского. Во время показа знаменитый режиссер и художник смеялся, иногда с группой присутствующих на просмотре актеров, аплодировал. Видно было, что показ понравился и все были довольны и много улыбались. После показа Акимов пригласил всех сесть поближе к нему и неожиданно вместо оценок и разбора увиденного, стал расспрашивать, откуда каждый родом. Когда стало ясно, что никого из ленинградцев не оказалось, он попросил позвать замдиректора по фамилии Пробойнов. Вскоре появился Пробойнов. Режиссер и директор стали долго выяснять, сколько мест осталось в театральном общежитии. Когда стало ясно, что место для всех найдется, Акимов повернулся к показавшимся актерам и с теплой улыбкой сказал:
— Ну вот, а теперь поговорим о вашем показе. Начну с очевидного, вы видели, как принимали вас наши актеры? Участники показа закивали головами, а уверенный больше других Самойлов, сказал:
— Николай Павлович, спасибо вам. У вас очень доброжелательная атмосфера в театре.
— Ну что ж, Самойлов, спасибо на добром слове. Ну что, примем очаровательного льстеца Самойлова в наш театр?
Раздался хохот и аплодисменты.
Акимов изменил позу, сел повыше и, оглядев присутствующих, продолжал.
— Щукинскую школу отличает не только уровень подготовки, юмор и музыкальность, но и чувство литературного материала, его выбор. В этом смысле Осборн, вполне отвечает духу времени. Передайте мои поздравления режиссеру Паламишеву. Я ведь в прошлом вахтанговец, поэтому в какой-то степени испытываю к вам слабость и мягкосердечие.
В зале снова кто-то зааплодировал.
— Я не хочу разбирать отдельно каждый отрывок, но показ в целом был ярким, профессиональным. Девочки танцевали хорошо, прекрасно прозвучал Корнель. Говорят, что в БДТ недавно приняли актера, который в совершенстве знает французский язык. Теперь и у нас в театре может появиться такой актер.
Акимов внимательно посмотрел на Самойлова и сделал долгую паузу. Виктор понял, что Акимов уже все знает и его пауза всего лишь предоставленная возможность рассказать или промолчать о показе в БДТ. Самойлов решил, что скажет об этом позже. Но Акимов ответил на это по-своему:
— Вашим преимуществом будет то, что вы будете работать в нашем театре вместе. Вместе легче жить и, как ни странно, проще найти свое место в театре. А что касается показа, то он был хорошим и мы с этим вас всех поздравляем. Я прав, коллеги? — обернулся он к сидевшим в зале актерам театра.
— Молодцы! Прекрасный показ! – раздались голоса и снова аплодисменты.
— Вот видите, какая доброжелательная оценка нашего коллектива. Вскоре я начинаю ставить новый спектакль, — продолжил Акимов. Он назвал пьесу и, посмотрев в сторону Самойлова, сказал:
— Вы там будете заняты наверняка, но и все остальные сразу войдут в репертуар. Не обессудьте, будут вводы.
Он повернулся к завтруппой и спросил:
— Гертруда Ивановна, вот вам замечательная смена. Пусть Аркадий Иосифович займется вводами. Но это не все! Параллельно с моей работой, мы возьмемся восстанавливать «Свадьбу Кречинского», где у вас будут хорошие роли. До теперешнего показа, это восстановление было под вопросом, а сейчас кажется возможным. Так что добро пожаловать в театр. Показ вы провели умело, даже хорошо, поэтому мы подадим заявку на всю группу. Поздравляю вас.
Вечером, накупив еды и вина, уставшие, но возбужденные, молодые актеры вернулись в гостиницу «Октябрьскую». Отъезд в Москву был через день, в 11 утра, так что времени отдохнуть, и посмотреть Ленинград было предостаточно.
Все разбрелись по своим номерам, договорившись через час собраться у девчонок.
Номер девочек был на этом же этаже.
Люся первым делом пошла в ванную и долго оттуда не вылезала. Алиса на всякий случай постучала – не случилось ли чего? Выйдя из ванной, Люся прямо в халате прошла к дежурной и попросила штопор. Когда благоухающая и вымытая Алиса вошла в комнату, стол был уже накрыт. Девчонки давно дружили, и секретов между ними не было. Но видя настроение подруги, Алиса поняла, что произошли неприятности, о которых Люся умолчала.
— Мать, ты что-то не договариваешь? Как ты все-таки показалась в
Комиссаржевке? Я же по лицу вижу, что все не так, как ты нам рассказывала.
— А что, я, по-твоему, должна была перед ребятами рассказать, в какие… игры он со мной играл?
— Нет, ты ничего не должна. Просто я вижу, что ты не в себе. Что случилось?
— Подожди, давай выпьем. А то сейчас завою, как гиена.
Они выпили и закусили виноградинками.
— Обидел, что ли? Или приставал? – неуверенно спросила Алиса.
Люся допила стакан и уставилась в окно.
— Не знаю, где у меня стоит штемпель, что меня можно вот так, сходу после показа тащить в комнату около кабинета и всучивать дряблый член для …
Алиса сморщилась от такой бесподобной откровенности и косо посмотрела на сокурсницу.
— И что, показа не было? Сразу приставать начал? – спросила Алиса, пристально глядя на Люсю, на прилизанные после ванны каштановые волосы, круглые зеленые глаза и белесое без макияжа лицо.
— До форточки ему мой показ! — воскликнула Люся. — Он собственного актера, этого Мальцева, в три шеи выгнал из кабинета, после дежурных слов: «спасибо, что подыграл». Торопился, чтобы быстрей наедине остаться. У него такая комнатка за кабинетом — вся голыми бабами обвешена. Когда я предупредила его, что должна подыгрывать сокурсникам в театре Акимова и что у меня остается час времени, так он сразу схватил меня за жопу и на диван. Я ни в какую, тогда заливать начал, что в театр возьмет.
И при этом все время коньяк с лимоном пихает в рот. Показ, говорю, у меня, нельзя мне.
Тогда целоваться полез. Изо рта гнилыми зубами пахнет, потным стал и наглым, словно я проститутка.
Люся налила еще вина и, сделав глоток, повернулась к подруге.
— Алиса, скажи, что я – б…ь какая-нибудь, что ли? Почему мужик, притом еврей, через пять минут после рюмки коньку лезет ко мне целоваться, сует руку под юбку и тычет пальцами тебе между ног. И главное, я как полная идиотка, все это терплю, чтобы получить какую-то заявку на работу. Что это за профессия такая, что тебя ни в грош не ставят?
— Успокойся, у тебя теперь есть в этом городе театр, где тебя ждут.
— Не меня ждут. Вот Самойлова ждут, тебя с Насоновым ждут, а меня берут за компанию. Акимов Витьке даже роль пообещал в новом спектакле. И Товстоногов на него глаз положил. Вот, вроде учились вместе, а судьба оказалась разная. Витька и твой Насонов молодцы. Они с этим Достоевским до печенок достают. Ты зря к Володьке так относишься. Он любит тебя. Да-да, вижу, что любит. Выбрось из головы ты этого осетина. Не поедешь же ты к нему в Оржоникидзе? Я бы на твоем месте сдалась Насонычу и зажила бы с ним в Ленинграде припеваючи. Мужик он красивый, с ним в паре цены вам не будет, героев будете играть.
— Спасибо подруга за хлопоты.
Алиса мельком взглянула на себя в зеркало, встряхнула рукой еще не подсохшие овсяные волосы и с улыбкой спросила.
— Ты про себя скажи, какие у тебя планы?
— У меня планы Дон Жуановские. Вот пойду сейчас и изнасилую Самойлова.
— Ну и шутки у тебя, Люська. Витьку не так-то просто охмурить. Помнишь, Эрку, с вечернего курса, как она за ним бегала, а он хоть бы хны. Всегда выбирал кого-то со стороны. А сейчас у него какая-то девчонка из Подмосковья. Очень миленькая.
— Была девчонка. Была да сплыла. Моим будет. Сегодня же его попробую. Вот возьму бутылку вина и к нему пойду, прямо в халате.
— Но там же, Насонов.
— Выгоню. Скажу, чтобы тебе помог волосы расчесать.
Люся с хохотом схватила бутылку вина и развернулась к выходу.
— Люся, ты хоть одень что-нибудь под халат. Витька выгонит тебя за такое нахальство.
Люся одернула халат и показала бикини. Все в рамках приличия. Она развернулась и пошла на выход.
— Сейчас пригоню к тебе нашего мачо и если ты, дура будешь строить из себя целку, я тебя убью собственными руками.
Раздался стук захлопнувшейся двери, и Алиса осталась одна. Не успела она подойти к зеркалу, как в дверь постучали.
— Входите, — испугано отозвалась Алиса и быстро уселась в кресло. Это был Насонов. Он был в тапочках, спортивных брюках. Сверху была одета клетчатая рубашка. В руках у него была потертая сетка, в которой из-за бумаги высовывалось горлышко водки и кругляк колбасы.
— Входи, садись за стол, — делово стала командовать Алиса. Люся тут кое-что приготовила. Вот видишь: нарезка, сырки, виноград. А что у тебя в сетке?
— Это я еще в Москве захватил. Колбаса и «Столичная». В случае успеха хотел выпить с тобой.
— Со мной наедине? – кокетливо спросила Алиса.
— Можно и наедине. Если ты не возражаешь.
— А ты оказывается кот, Володька — решил напоить бабу.
— Почему напоить? Сколько получится. Ты же знаешь, Витька водку не пьет.
— Ну ладно, давай выпьем по глоточку твоей «Столичной». Алиса подсела ближе к Насонову, и внимательно посмотрев на него, сказала:
— Давай выпьем за удачу, Володя. После Товстоногова я растерялась, а сейчас успокоилась. Мне Акимов понравился.
— Главное у него есть общежитие, — разливая водку, подхватил Володя. Мы и там будем рядом – меня это устраивает.
— Правда, Володя? Ты рад? – спросила Алиса, не отрывая глаз от его лица. Этот взгляд был настолько неожиданным, что Володя понял, что сегодня, наконец, все свершится. Они выпили, и он сразу налил еще, чтобы «вслед соколу послать орла», как когда-то, выпивая, приговаривал его отец. Они еще выпили, на этот раз больше и торопливее, оба понимая, что им хорошо и желанно вместе.
— Ты думаешь, что у меня сложится в этом театре? — теперь уже не меняя взгляда, спросила она.
— Ты будешь первой актрисой этого театра. Сегодня, когда ты танцевала, я не сводил с тебя глаз. Если бы ты знала, как вместе с тобой танцевала твоя коса – передать тебе не могу. Ты, Алиска, — чудо, красавица, струнка ненаглядная… Правда, иногда тебя захлестывают эмоции, но они тебе идут. Ты не умеешь по-глупому сердиться и строить из себя Вертинскую.
— Все это слова, Володя, очень красивые, но слова. А я хотела, чтобы ты мне от души что-то сказал. А ты про общежитие, про мою красоту… А на самом деле ты – кот, Володька. Мурлычешь, мурлычешь, а сам молочка хочешь. Не правда ли?
Насонов подсел поближе и неожиданно прижал Алису. Это было и робко и неумело. Но произошло непредвиденное. Ее халат приоткрылся и красивые, большие груди выпорхнули из-под халата. И вот тут Насонов не растерялся и мгновенно их поцеловал. Алиса хотела прикрыться руками, но Насонов стал ее целовать в лицо, губы и груди. В нем поднялась такая волна страсти, что он не мог совладать с собой. Вскоре она перестала сопротивляться и когда он, взяв ее на руки, понес к кровати, она уже ни в нем, ни в себе не сомневалась.
Шерше ля фам
Когда Кумир увидел, что Мартова заперла дверь, он не на шутку испугался.
Вспомнил одну историю, как одна женщина, знакомая его сестры проучила наглого соседа в тесной коммуналке. Тот безобразно вел себя и терроризировал эту женщину. Однажды, когда он пришел к ней, она незаметно заперла дверь своей комнаты на ключ и стала кричать, что ее насилуют. Соседи по коммуналке вызвали милицию, и наглого соседа посадили на порядочный срок.
— Вы зачем заперли дверь? – испуганно начал Кумир.
— Дело секретное, поэтому и заперла. Напросилась к Дупаку только для того, чтобы вы знали, что на вас написан донос.
Она показала руками размеры доноса и подсела совсем рядом. От нее пахло хорошими духами. Видно было, что она переполнена благородными чувствами и желанием помочь.
— Это правда, что вы служили в органах НКВД?
— Да, служил, — насторожился Кумир, не предполагая, что донос может быть из военной сферы. – И кто его написал?
— У вас был знакомый по кличке «Полотер»?
Кумир вспомнил, что у одного из начальников ансамбля была кличка «Полотер».
Кумир пожал плечами и с недоумением бросил.
– Кажется, был такой человек. Но фамилию его я не помню.
— Наши заговорщики в доносе его не указывают, но на него ссылаются. Пишут, что вы были доверенным человеком Берии и главным доносчиком. Якобы поэтому Лаврентий сделал вас ведущим этого ансамбля и поэтому якобы вас не отправили на фронт.
— Вранье собачее… У каждого, кто работал в этом ансамбле, есть номер личного дела. Пусть заглянут туда и уймут фантазию.
В этот момент в дверь постучали. Мартова взбила волосы обеими руками и, сделав успокоительный жест Любимову, пошла открыть. В дверях стоял Дупак.
— Юрий Петрович, ко мне в кабинет позвонила ваша жена. Она на проводе. Подойдете?
Кумир встал, быстро пошел к двери и неожиданно споткнулся. Нога заныла внизу и он, прихрамывая, подошел к телефону.
— Дорогой, — послышался голос жены, — звонил Вознесенский, приглашал на поэтический вечер в Политехнический. Пойдем?
— На Вознесенского пойдем.
— Ты перекусить заедешь?
— Нет, у меня встреча с Эрдманом в Доме литераторов.
— Ты меня приглашаешь? – насмешливо спросил жена.
Возникла долгая пауза, после чего она бросила:
— Хорошо, побудьте в мужской компании. Я знаю, чем себя занять.
Проходя мимо Мартовой, Кумир шепнул артистке:
— Выбросите все это из головы. Начнем работать и все доносы, окажутся «филькиной грамотой»
Воспоминания об НКВД
Кумир проснулся и медленно приоткрыл глаза. Все было, как и прежде. Только что во сне он был молодым, ругал коллег за трусость и угодничество, потом разговаривал с отцом, просил его почитать свои новые стихи и вдруг опять больница, рядом с кроватью капельница, на тумбочке аппарат для снятия кардиограммы.
Кумир нехотя вспомнил, как отбросил напичканные враньем и смакованием его конфликта с театром газеты, и как заснул после обеда, чтобы скоротать время до прихода Катерины. Сон воспроизвелся отчетливо, словно все происходило вчера.
Это было давно, во время войны, когда он единственный раз видел Берию. Перед глазами возник черный мраморный зал здания Лубянки. Это был клуб НКВД. Все с трепетом ждали Берию. Он опаздывал. Решили, что уже не приедет. Расслабились. И вдруг все двери партера с грохотом открылись, всюду в дверях появились похожие друг на друга люди в специальном штатском. Первое ощущение, что приехали кого-то арестовывать, потому что стояли на всех выходах. После дюжих охранников вошел нестарый человек в пенсне и кепке. Не снимая пальто, сел в середине зала, кому-то скомандовал, и всем стало понятно, что надо начинать. Показ шел из рук вон плохо. Нервничали и тряслись.
На этом показе Кумир не выступал. Вел получасовую программу другой. В глубине души он обрадовался. Любая ошибка ведущего, когда в зале находился Берия, могла закончиться катастрофой. Вместо этого, он, притаившись в партере, пристально изучал всесильного человека, перед которым склонялись самые сильные люди страны. Не отдавая себе отчета, что все эти наблюдения оседали в памяти и могли пригодиться в будущем. (Много позже Любимов сыграл в «Шарашке» Солженицына самого Сталина. Сыграл без грима и гениально, потому что, «чтобы уметь воспользоваться опытом, нужен опыт». В том числе и такой, как встреча с Берией).
В конце это го незабываемого концерта участники этого показа — режиссер Юткевич, балетмейстер Голейзовский, танцовщик Асаф Мессерер, великие мхатовцы Тарханов и Белокуров — все эти талантливые люди подобострастно выслушали замечания. По воспоминаниям Любимова на том показе Лаврентий Берия с грузинским акцентом провозгласил следующий вердикт:
«В Кремль поедет: первая песня о Вожде, вторая песня обо мне: «Шары бары, верия, Берия», — на грузинском языке, потом молдавский танец и русская пляска, где бабы крутятся и все красивые ляжки видны. Все! Сказал и ушел. Двери захлопнулись, охрана вышла. В тишине начальник ансамбля сказал:
— Вот это стиль, будем прямо говорить! Учиться надо!»
И тут же в памяти всплыл март 1953 года.
Любимов вспоминает:
«Телефонный звонок в комнату на Котельнической набережной. Это был звонок из Вахтанговского театра:
— Юра, срочно приезжайте в театр.
Поймав в три ночи такси, Кумир помчался в театр.
— Если можно, езжайте побыстрее, — попросил он водителя по дороге.
Проезжая мимо Кремля, шофер спросил:
— А что случилось – ночью вы выскочили из высотки, ловите машину, нервничаете?…
— Поторопитесь, меня ждут. Звонили из Вахтанговского театра, из партбюро.
— Что-нибудь случилось?
— Видимо Сталин умер.
Таксист не останавливая машины, снял кепку, а подъехав к театру, не стал брать деньги.
— Такое горе, просто несчастье, я и деньги не буду брать с вас».
На этом собрании и позже — на похоронах и скрываемом дележе власти после смерти Отца народов, ему стала видна подлинная суть этой власти.
Если раньше у него была возрастающая настороженность к ней, то позже, и в немалой степени благодаря собственному опыту во время работы в Органах, появилось осознанное и неудержимое отвращение к этой власти. Он поклялся памятью замученного деда и ободранного до нитки отца, что никогда эти «вершители судеб» не увидят его унижения. Подобные чувства возникали и раньше, но тогда, при встрече с Берией и событий вокруг смерти и разоблачения культа личности Сталина на XX-ом съезде, это стало твердым убеждением.
Роковой конфликт
И свое слово он сдержал. Никогда после этой клятвы он не унижался и был одним из тех, кому в ответ платили за эту стойкость ненавистью и клеветой. Унижение пришло с другой стороны, от своих коллег. Почти пятьдесят лет он вел театр к величайшему признанию, через тяжелейшие испытания, и казалось, заслужил уважение и любовь. Но, оказывается, ошибся в главном. Все, что им в эти годы возделывалось, было разрушено его собственными учениками, их алчностью, гордыней и невежеством.
Он протянул руку к газете и открыл недочитанную страницу о «конфликте главного режиссера с труппой театра на Таганке в Чехии». Вспомнил, как ему кричали в лицо, что он украл у них деньги, веру, свободу и будущее.
Зазвонил мобильный. Он взял трубку и услышал голос старшего сына Никиты.
— Привет, папа! Как ты себя чувствуешь?
— Привет, Никита. Как я себя чувствую? Сразу и не ответишь.
— Понятно. А что говорят врачи?
— Врачи, Никита, похожи на артистов — выдают желаемое за действительное. Я им говорю, как может чувствовать себя человек, которому без малого сто лет, они мне говорят, что я редкий экземпляр. Я им говорю, что этот экземпляр похож на залежавшуюся в комиссионке вещь, на нее смотрят, удивляются, но никто не покупает. Они говорят, что сердце у меня, как у быка и что мне надо вновь вернуться в театр. Жена привезла ворох газет — пишут, что я для всех устроил дивертисмент, в результате которого обязательно вернусь на Таганку. Жаль, что там давно нет тюрьмы, туда я возможно и вернулся бы, но только не в театр.
— Ты же говорил, что пишешь стихи?
— Пишу, только, кажется, что они никуда не годятся…
— Ну, прочти хоть пару строчек.
— А вы, помазанники божии, по паре строф все понимаете?
— Конечно хорошая поэзия — лучше любого врача. Вот тебе рецепт.
Слушай.
— И сын начал читать:
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
— Спасибо, сынок. Всю жизнь я под гнетом власти роковой внимал духовным призываньям и, в конце концов, стал похож на старого господина из одной шекспировской пьесы. Он бросил королевство, а я театр.
— У тебя по сравнению с королем Лиром, папа — есть существенная разница. Тот сошел с ума, а ты пишешь стихи.
— В моем возрасте, это одно и то же, Никита. Ну ладно, вот тебе несколько строк моего творчества. Жена говорит, что как я только записываю, все у меня не по делу, а так один глупый лиризм получается. Ну, слушай:
Ночь, огни, самолет, снег пушистый
Бетон прикрывает и слетает с него
Словно пух тополей над Москвой.
Сердце ровно стучит, на душе все ж теплей,
Хоть и нет тополей.
Дух мой странно спокоен,
Хоть похоже на то,
Не видать ни родных, ни друзей!
Мне, ни тех тополей.
Разлетелось все в пух.
Где положат мой прах?
Я лечу в небесах.
— Папа, а где ты записал эти стихи?
— Ну и хитрый ты, Никита, вместо оценки моего творчества, ты интересуешься, где оно записано. У меня есть коробка для шоколадных конфет, вот на ней записаны стихи. Они даже вкусно пахнут.
— Нет, папа, я не к тому, как пахнут эти стихи. Они написаны Любимовым и этого достаточно, чтобы к ним отнестись серьезно. Я о другом — сегодня о тебе пишут, бог знает что. Ты не хочешь продиктовать моему товарищу – хорошему журналисту — ответ на всю эту «желтую» клевету?
— Мысль неплохая… А кто этот журналист?
— Мой товарищ. Его зовут Володя Елагин.
— Фамилия знакомая.
— Нет, к тому Елагину он не имеет отношения.
— Хорошо, пусть он мне позвонит, и мы договоримся.
В это время в палату Кумира вошел с обходом главный врач больницы с сотрудниками.
— Все, Никита, ко мне пришел главный врач, созвонимся позже.
Следом за медицинской комиссией медработники стали вносить вазы с цветами, потом вкатили тумбочку с телевизором, отдельно принесли компьютер и две авоськи с фруктами. И, наконец, в завершение всего в палату вошла жена Кумира Катерина.
Главный врач обернулся к ней и с улыбкой сказал:
— Поздравляю, Юрий Петрович, у вас очень уютно. Все это благодаря вашей жене. Мне позвонили, и я выполнил указание. Как сказал китайский философ Вэй Чжэн : «Кто управляет при помощи добродетели, того можно уподобить северной Полярной звезде, которая пребывает на своем месте, а (остальные) звезды с почтением окружают её». Врач, глядя на Катерину, захлопал в ладоши, и это подхватили все присутствующие.
Кадры решают все
По переполненной транспортом и тополиным пухом Москве газует «Москвич». Комки белого пуха оседают на стекла машины. Водитель торопится.
Повернув в Вахтанговский переулок, машина остановилась около театрального училища имени Щукина. Сегодня должен быть показ выпускников четвертого курса Щукинского училища.
Его связывала дружба со старшим преподавателем Борисовым, худруком выпускного курса. Показ был специальный — с приглашением режиссеров и директоров театров.
Кумир быстро прошел в переполненный зал и сел рядом с Борисовым.
Неожиданно к режиссеру подбежала дежурная с первого этажа и что-то стала шептать на ухо. Выяснилось, что его срочно вызывают к телефону.
Режиссер спустился вниз и, чертыхаясь про себя, взял трубку. Звонили из Управления культуры РФСР. Соединили с Рудаковым.
— Здравствуйте Юрий Петрович, — раздался знакомый голос, — нам стало известно, что завтра у вас в театре показ молодых актеров.
— Да, завтра в два часа у меня показ, — сдержанно отозвался Кумир.
— Очень хорошо. К вам приедут показываться родственники одного из руководителей нашей партии и одного из силовых ведомств. Вы надеюсь, понимаете какого ведомства?
— Догадываюсь, Борис Иванович.
— Если это будет достойно, вы этих актеров примете в театр?
— Если будет достойно — то, скорее всего, да. Но объясните, почему такие талантливые люди рвутся в маленький, второзрядный театр, с минимальным бюджетом и возможностями?
— О вашей докладной записке мы помним, — послышалось в ответ. — Со следующего года бюджет театра будет актуализирован. Вы только правильно работайте… Вот Лермонтов, это – верное направление.
— Нет, я не разделяю ваш оптимизм. Этот спектакль по ряду причин не получился, — твердо ответил Кумир.
— Повторяю, мы «Героем нашего времени» довольны. В целом! А критика пусть пишет, что ей заблагорассудится, на то она и критика. Спектакль сделан к юбилею, он будет обязательно отмечен в годовом отчете и поощрен премией. Поймите, сейчас главная ваша задача как руководителя театра — создать серьезный репертуар. Думайте, у вас время еще есть. Впрочем, это не телефонный разговор. Об этом поговорим при встрече. На следующей неделе мы вас вызовем.
В трубке раздались гудки. Кумир поблагодарил дежурную за вызов, вернулся в зал и сел на прежнее место. Настроение было испорчено. Собрался он только тогда, когда объявили Достоевского.
Отрывки из «Идиота» Достоевского и «Случая на станции Кречетовка» Солженицына, он смотрел «с прицелом». Этих выпускников – Виктора Самойлова и Владимира Насонова — ему рекомендовали. Оба ему понравились, особенно Самойлов. После показа он зашел с Борисовым за кулисы, поблагодарил всех, а «своим» даже пожал руки. Оба выпускника поняли, что рукопожатие – хороший признак и что они будут приглашены в ставший в одночасье популярный театр.
— Ну что? Как тебе мои ребята? – спросил худрук, прощаясь с Кумиром.
— Толя, возьму этих двоих. У меня две ставки. Самойлова возьму точно, а Насонова — пока под вопросом. Мне хотят втюрить одного родственничка из ЦК. Если отбрешусь, то тогда приму обоих. К сожалению, больше ставок у меня нет.
— Кто ж это лезет к тебе?
Кумир нагнулся к уху Борисова и шепнул имя. Борисов испуганно расширил глаза, и на лице его появилась недовольная гримаса:
— Черт бы их побрал! Лезут, куда хотят. Ладно. Когда тебе позвонить – по поводу Насонова?
— Смотреть я их буду завтра, сразу после репетиции в два часа дня. Так что звони в пять вечера. Они попрощались и Кумир, сорвавшись с места, сел в машину и погнал свой «Москвич» домой. Он ездил по Москве быстро, иногда хвастал, что может быть учителем по вождению, поэтому правил не нарушал.
Но вдруг неподалеку от театра Вахтангова, на повороте, ему свистнули. Милиционер строго козырнул, но сразу каким-то чутьем понял, что перед ним известный человек. Строгое лицо стало приветливым, но вопрос прозвучал напористо.
— Почему нарушаем?
— Виноват, товарищ лейтенант. Решал важный вопрос и залез на желтый.
— Важные вопросы в Политбюро, а у нас — дисциплина. Фамилия?
Кумир назвался. Лейтенант вспомнил и улыбнулся. Кумир не удержался и вставил.
— Это Политбюро не дисциплинированно. Едут, как пожарники по Москве. Они едут, а нам приходится с вами стоять по стойке смирно.
— Политбюро здесь не причем, им положено, — строго заметил милиционер. — Хотя, честно говоря, они больше всех доставляют хлопот на дороге.
— И мне тоже, но только не на дороге.
— В кино, что ли? — улыбнулся лейтенант.
— Теперь и в театре, — ответил Кумир.
— Держитесь. Но знайте, закон сохранения энергии — двигаться по правилам – тогда никто вас не остановит. Езжайте, на этот раз — устное замечание, товарищ «кубанский казак».
Встреча с милиционером и предложение «двигаться по правилам» странным образом надолго останется в памяти Кумира.
«Круглый стол» у Люси
Приехав домой, он застал большую компанию. Гости уже налегали на жареного лосося и запивали рыбу белым вином вперемежку с армянским коньяком. В первый момент, увидев всех в крепком подпитии, Кумир решил, что сейчас не время, как он предполагал, говорит о репертуаре.
«Герой нашего времени» провалился, и надо было срочно поставить спектакль, который не уступал бы Брехту. А «под вихром» хоть и были названия, но хотелось поддержки. Провал «Героя нашего времени» поселил в душе неуверенность. Сейчас ему нужны были друзья, способные подкрепить волю. Больше всего он советовался с Эрдманом, тот, к счастью, всегда участливо к нему относился. Кумир был доволен эрдмановской инсценировкой «Героя нашего времени», но неудовлетворен собой. Провалил спектакль на первом же повороте. Но сегодня Николай Робертович отсутствовал. Он не любил шумные застолья.
Приглашены были те, кто в разное время вошли в костяк театральных экспертов. Несколько человек сидели в стороне около окна на диване, увлеченно о чем-то спорили, другие курили на балконе.
Когда вошел хозяин, все потянулись к столу, принялись разливать напитки, шума заметно прибавилось. Из кухни с подносом, на котором красовались закуски, появилась знаменитая жена Кумира Люся и, увидев супруга, стала гостей зазывать к столу.
— Эй, куряки, проходите! — крикнула она в сторону балкона. — Садитесь, садитесь… Юра пришел! Давайте вместе выпьем…
Она поставила поднос посередине стола и высоким серебристым голосом вновь обратилась ко всем:
– Кто еще хочет язычка? Вот вам — нарезанный язычок! Чок-чок-чок! Подходите! Садитесь! Юра, ну что ты стоишь, зови всех! Садись вот сюда, — подвинула она стул мужу.
Она быстрым движением руки прибрала его волосы и одернула ворот полинявшего серого свитера.
Наконец все расселись. Под разговоры и шутки разлили питейное и,
вразнобой, приветствуя хозяина дома, уставились на него.
— Всем здравствуйте! – энергично приветствовал хозяин. — Рад всех видеть и простите, что задержался.
— Юра, мы здесь время не теряли, — в ответ откликнулась жена. — И как видишь, у нас уже все разогрелись. Налегайте, пробуйте язычок, — перекрывая шум, громко предложила жена Кумира.
— Дэзик, ты хотел языка – пробуй!
— Юра, кого-нибудь подсмотрел из щукинцев?…- громко спросил пушкинист Ермилов. – Может второй Губенко появился?
— Ну, да, так тебе Губенки всюду и клонируются, — пьяно отозвался кто-то из присутствующих.
— Сегодня тяжелый день, — оглядывая сидящих за столом, начал Кумир. Вначале смотрел молодые таланты нашего театрального училища, а потом чуть не попал в милицию. ГАИ задержало. Торопился к вам… Слава богу, попался толковый милиционер. Кстати, признался, оказывается, что больше всего хлопот на дорогах доставляет нашей милиции Политбюро.
Все шумно отреагировали на сказанное и вновь уставились на хозяина дома.
— Между прочим, когда я сказал, что и мне Политбюро доставляет много хлопот, умный лейтенант ответил толковой милицейской мудростью: закон сохранения энергии – двигаться по правилам.
— Такой режиссер, как Вы не может двигаться по правилам, Юра, — с вызовом выкрикнул поэт Дэзик. – Это – абсурд!
Все захохотали и даже зааплодировали поэту.
— Спасибо, Дэзик. Не за комплимент, а за тезис, как двигаться дальше. Я по правилам сделал к юбилею Лермонтова «Героя нашего времени» и по полной программе провалился. Все зашумели, выражая несогласие.
— Юра, это не так! — перебил всех историк Логинов, — не согласен, в спектакле есть удачи, прекрасная форма.
— Один световой занавес чего стоит! — подхватил пушкинист.
— По форме там, может, и есть вещи приличные, — продолжил хозяин.
— Золотухин — приличный Грушницкий. Есть какие-то неплохие выдумки, световой занавес… Но нельзя было давать роль Печорина Губенко. Это была моя большая ошибка.
— Нет, Юра, — перебил пушкинист, — это не твоя ошибка. Губенко замечательный артист, но для этой роли нужен был другой исполнитель. Нужна была другая фактура и обаяние.
— Согласен. Но главное не в этом — нельзя было торопиться. Вот она идиотская, рабская сущность – угодить начальству. Я поддался их настоянию выпустить этот спектакль к юбилею Лермонтова. И с треском провалился! Разумеется, тут же большинство критиков заговорили, что я сделал «Доброго человека» случайно и больше уже ни сделаю ничего подобного.
Эти слова потонули в возгласах несогласия.
В разговор вмешалась Люся.
— Подожди, подожди… Не впадай в крайность, Юрочка. Во-первых, это на тебя не похоже, во-вторых, у тебя великолепные замыслы…Ты пригласил умных, знающих людей посоветоваться. Ведь так? Вот и расскажи о том, что ты надумал.
Слова жены возымели действие и все замерли.
— Борис Леонидович и Николай Робертович, который, к сожалению, сегодня не смог прийти, познакомили меня, когда-то с Вознесенским. Кстати, мы с Люсей были на его выступлении в Политехническом. Там все они собрались: Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский …Здорово было! Андрей пришел на «Доброго человека» еще в училище. На ходу спросил: «Чем я могу помочь?». Я ему ответил, ну, скажите мол, чтоб это хорошо было бы сохранить. И он сразу передал это корреспондентам.
Почему я так издалека начал — что мы сейчас потихоньку начали репетировать «Антимиры» Вознесенского.
— Прекрасная идея, — подхватил пушкинист. Ведь Андрей один из лучших, а среди прозаиков – Казаков Юрий.
— И мне так кажется, — согласился Кумир. — Это намечается путь поэтических представлений, вечер стихов. Линия лиризма и музыкальности. Словом, « Театр и поэт». С Дэзиком у нас есть тоже поэтический замысел, но это уже — другое время, это те поэты, кто прошел войну и сталинский каток. Мы назвали это представление — «Павшие и живые». Но это позже, ближе к лету. Мы с Грибановым и Дэзиком собираем материал. А вот сейчас… Но прежде чем я скажу, давайте выпьем…
— Всё хорошо! — вдруг выкрикнул Дэзик. — Может быть, и Вознесенский хорошо, если не Пастернак. Но только пусть участвует и читает сам, тогда будет интересно. Именно, так как ты, Юра, сказал – «Поэт и театр».
— Но это все-таки изыски, — уверенно заговорил историк. — Нужен грандиозный материал. Что-то вроде: «На все вопросы отвечает Ленин».
— Нет, у Юры другой замысел, — подала голос супруга. — Юра, ну что ты молчишь? Скажи, наконец!
Кумир отложил приборы и, вытерев салфеткой рот, заговорил тихо, почти заговорщески.
— Я давно ношусь с идеей поставить спектакль по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».
— Но там, нет драматургии! – воскликнул историк.
— Подожди, Логинов, — раздался чей-то голос. Большинство из присутствующих заинтересованно загудели.
— Если нет драматургии – нарисуем! — с вызовом выкрикнул уже пьяный художник Дорер.
— Я хочу сделать полемический спектакль против театрального однообразия, — восклицал, помогая себе руками, Кумир. — Спектакль, направлен против лучшего театра в мире — МХАТа! В спектакле не будет ничего общего с книгой. Это будет какая-то шарада из разных жанров, включая даже пантомиму. Будет Ленин или его голос, будет театр теней, цирк и буффонада. Я хочу показать все возможности сцены, вплоть до театра рук.
Все зааплодировали, кто-то потянулся к рюмке.
Неожиданно чей-то бас перебил общее благодушие.
— Все это хорошо! — решительно заговорил изрядно подпивший специалист по Достоевскому. — Но это типичное — и «не то»! Эти игрушки в буффонаду – привет Мейерхольду и «Синей блузе». Чем силен Брехт? Выступающий откинул корпус и запел:
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны…
«Добрый человек» расшевелил наше болото, он прозвучал набатом. Специалист по Достоевскому окинул взглядом присутствующих и перешел на какой-то зловещий шепот.
— Эту власть больше в таком виде терпеть нельзя. Поймите, граждане эстеты, Россия сходит с ума! Все это не наш менталитет и поэтому все это когда-нибудь провалится в тартарары! Ставить надо – «Преступление и наказание» Достоевского, «Пугачева» Сергея Есенина.
Нужен спектакль объясняющий природу нашей власти. И не только большевистской, а вообще власти нелегитимной, власти насилия, тоталитаризма, превращающего народ в труп.
Возникла какая-то перепуганная тишина, которую оратор заполнил оглушительным, неистовым пением:
Власти ходят по дороге…
Труп какой-то на дороге.
«Э! Да это ведь народ!»
Стоило только замолчать горластому «вокалисту», как тут же вскочила красавица Люся и разразилась таким матом, что все втиснулись «по колено» в стулья. Когда первый абзац был выдан, Люся заговорила спокойнее.
— Ну и м…к ты, Коряка! Куда тебя понесло?! Талантливый человек, неглупый, кажется. Наверное, член партии, а несешь антисоветчину в доме, который сто лет… прослушивается.
Последнее слово она проартикулировала, но всем присутствующие все было понятно.
— Так и хочется сказать: дубина стоеросовая! Да эта власть простоит тысячи лет. И всегда будет легитимной — сколько бы ты не желал ей свои идиотские ТАР-ТА-РА-РЫ! Запомни, не дело театра свергать власть. Театр должен рождать тех, кто способен эту власть воспитывать. Вот чему учит нас Ленин! Театру нужна диктатура красоты, а не разрушения. Именно этому учил, чтобы ты знал, Мейерхольд, о котором ты вспомнил, но которого ты никогда не видел и не читал. Она обернулась к мужу и с вызовом закончила:
— Я в нашем доме ахинею нести не позволю. Пусть это звучит высокопарно, но я давно на пути великого служения стою. И вам того же желаю! На последних словах, словно проснувшись от спячки, начался такой ор, что успокаивать гостей пришлось очень долго.
Поздно вечером, когда, убрав со стола после гостей, Люся легла рядом с мужем, тот рассказал ей, что ему звонили по поводу приема в театр кого-то из детей Председателя КГБ.
— И что ты ответил? – строго спросила она.
Он помолчал и, повернувшись набок, пробурчал:
— Посмотрим.
Она резко повернула мужа за плечи и сквозь зубы процедила.
— Не вздумай валять дурака, Юрка! Принимай этих артистов, какими бы они и не были. Тебе нужна крыша, а не этот бардак болтунов и штрейкбрехеров, которых ты собираешь.
— Оставь, других писателей у меня нет, — с грузинским акцентом ответил он.
— Ты не Сталин, мой дорогой…
— Да, и даже не Микоян…, — ехидно ответил Кумир.
Люся приподнялась на одной руке, а второй изо всей силы, наотмашь ударила по усмехающейся физиономии мужа.
В этой части записок надо добавить, что некоторые из присутствующих в только что представленной сцене входили в Худсовет театра. Худсовет был без приукрашивания мозгом театра. Представлял лучший образец сотрудничества театра и интеллектуальной элиты России.
Хорошая новость – лучшее лекарство
На следующий день Борисов прибежал на вечернюю репетицию «Накануне» Тургенева и на секунду прервав работу, отозвал в сторону Насонова.
— Володя, только что говорил с Юрием Петровичем. Он берет тебя в театр. Поздравляю!
Большой, чуть неуклюжий Насонов заулыбался и шепотом ответил.
— Спасибо, Анатолий Иванович, новость – лучше не придумаешь. Думал, что он Виктора возьмет, а я — не подхожу.
— Что за глупости! — отрезал Борисов, — ты понравился. Он лично мне об этом сказал.
Так что выбирай, Володя: Москва или Ленинград?
— Понятно. Я склоняюсь к городу Москве.
— В твоем случае склоняться надо не к городу или деревне, а — к театру. Понял?
— Понял, Анатолий Иванович.
— Вот это лучше. Между прочим, Любимов сообщил мне по секрету, что у них на улице Чкалова, неподалеку от театра появилось общежитие. Понял? Вам бы с Самойловым следовало побывать на Таганке, появиться на репетиции, проявить, как говориться, энтузиазм и заинтересованность. Между прочим, театр начинает репетировать «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида, потом будет «Пугачев» Сергея Есенина. На твоем месте надо семь раз отмерить, Володя, и один раз отрезать. Все! Иди, репетируй!
Борисов извинился перед режиссером за остановку репетиции и, сверкнув седым хохолком, легкой походкой пошел на выход.
Прием в театре на Таганке
После завершения сессии Самойлов и Насонов наконец-то собрались на Таганку. Шел упорный слух, что «10 дней, которые потрясли мир» — новый шедевр Любимова. Узнав, что ребята идут в театр, Алиса и Людмила напросились пойти за компанию.
Еще в метро все четверо с разинутыми ртами уставились на разудалый концерт, устроенный «зазывалами» из театра. Среди них были Высоцкий, Золотухин, но главное, двое их сокурсников – Хмельницкий и Васильев. Актеры Таганки, увидев группу щукинцев, стали исподволь их приветствовать. Все четверо с удовольствием постояли неподалеку от «зазывал», на виду проходящей толпы. Перед входом в театр бушевало море народа. Какие-то старушки бросились к ним навстречу и принялись спрашивать лишний билетик.
Перед входом в фойе народу было еще больше. Все перекрикивали друг друга, кто-то пробивался в кассу или к окошку администратора. В эту толпу нырнул Насонов и с трудом получил на фамилию «Хмельницкий» пропуск на четырех студентов — щукинцев.
Спектакль начинался не только в метро, но и в фойе театра. Здесь всё было украшено революционной символикой, рекламой агитпропа, а на видном месте был водружен письменный ящиком с предложением оценить спектакль: «нравится – не нравится». Потолкавшись в буфете и, поглазев на знакомые лица, студенты, видя, что до спектакля остались считанные минуты, решили пройти на балкон, как вдруг увидели директора театра Дупака с каким-то мужчиной. Они вышли из боковой двери внутренней части театра и направились в первую дверь партера. Зрители стали оглядываться на проходившую пару и о чем-то переговариваться. Первым кто понял, в чем дело, был Самойлов.
— Ребята, посмотрите в ту сторону, — он показал рукой в направлении входной двери в зрительный зал. Это, кажется, Молотов!
Действительно в зал вошел Вячеслав Михайлович Молотов в сопровождении Дупака и еще одного мужчины крепкого телосложения. Зрители тотчас узнали старого партийного деятеля и стали перешептываться.
Молотова усадили в седьмом ряду. Выйдя в фойе, Дупак заметил ошалевших от встречи с Молотовым студентов и подозвал Самойлова.
— Самойлов, ты что не садишься? Нет места?
— Есть, контрамарка на балкон, — смущенно ответил Самойлов.
Дупак подозвал студентов ближе, подвел к двери и указал на свободные места в восьмом ряду сразу за Молотовым.
— Идите туда, только не мешайте Вячеславу Михайловичу. Места были забронированы для охраны, а с ним приехал только один человек. Ошалевшие от счастья ребята быстро протиснулись на свободные места и уселись позади живописной лысины Молотова.
Спектакль начинался с показа мавзолея Ленина и смены караула. Молотов потянулся вперед, словно ему предстояло встретиться с Ильичем. Насонов не удержался и негромко хмыкнул. Тотчас к ним повернулся охранник и строго взглянул на всю компанию. Спектакль шел с нарастающим успехом и вскоре все забыли об охране персонального пенсионера и кэгебешном церемониале. То и дело раздавались аплодисменты, смех и разные другие непредвиденные реакции.
«10 дней, которые потрясли мир» пролетели, как мгновение, и вскоре Дупак вновь оказался рядом с Молотовым. Все пошли наверх, к любимовскому кабинету, живо обсуждая спектакль.
— Книгу я помню, но это всё по-другому. Какой-то винегрет, но забавно, — комментировал спектакль Молотов.
В кабинете был накрыт стол, и красовались разные напитки.
Насонов и Самойлов на правах будущих актеров театра на Таганке потолкались в прихожей и, решив разойтись по домам, начали спускаться к гардеробу. Но тут вновь появился Дупак и, заграбастав руками ребят, втолкнул их в кабинет главного режиссера. Народу оказалось немного, и актеры робко примостились у стенки. Но Любимов, указав на них, громко заявил:
— А-а-а! Вот, наши «новобранцы», Вячеслав Михайлович. Выпускники Щукинского училища Самойлов и Насонов. Пришли с вами познакомиться.
Молотов вежливо кивнул в сторону ребят и принял чашку чая, поданную ему администратором театра. Все, кто был ближе к столу, принялись разбирать печенья, конфеты, кто был посмелее, принялись наливать вино. Все ждали, что скажет о спектакле Молотов. Вячеслав Михайлович почувствовал, что пора что-то сказать и повернулся так, чтобы всем было бы его видно.
— А у вас весело! — сказал он и все вдруг почувствовали себя счастливыми. — Революция дело жесткое, даже жестокое, а в вашем варианте — это праздник, веселье, огонь… В книге Джона Рида, конечно, есть огонь, но у вас он какой-то задиристый, почти цирк… Ничего общего с книгой Джона Рида нет. Я ведь полистал её перед приездом к вам.
Любимов поднял указательный палец и, оглядев всех, сказал:
— Вот. Слышали? Вы настоящий зритель, Вячеслав Михайлович. Правильно, Вячеслав Михайлович, в спектакле ничего общего нет с книгой. Это спектакль аттракционов, сделанный для полемики против театрального однообразия. Конечно, МХАТ великий театр, но танцевать только от него для других театров, без такой труппы — гибель. И мы в противовес решили показать всю широту театральной палитры.
— Почему обязательно так? – вдруг с интересом спросил Молотов.
— Театр может быть весьма разнообразен. В нем могут существовать все жанры: то ходоки – натуралистический театр, то буффонада, то цирк, то театр теней, театр рук – то есть все, что может подсказать фантазия. Важно, чтобы зритель в это поверил и полюбил это.
— Вам это удалось, я смеялся от души. Я и не мог представить, что нашу революцию можно показать таким образом. Привычно, что Ленин все время ходит на сцене. А тут только за кадром и эта скромность не сделала его менее великим.
Вячеслав Михайлович улыбнулся и начал оглядываться.
— Сзади меня сидела молодежь, они так хохотали, что и мне пришлось от них не отставать. Вот этот молодой человек и сидел за мной. Кажется вы, Юрий Петрович, представили его как Самойлова?
— Да, это наш новый актер Виктор Самойлов.
— До войны был известный актер Евгений Самойлов, не родственник ли он вам? — спросил Молотов.
— Нет, мы однофамильцы, — смущенно ответил Самойлов.
— А как вам спектакль? — неожиданно задал вопрос Молотов.
— Мне? — переспросил Виктор, словно вопрос это был адресован кому-то стоящему рядом.
— Да вам, вы так над моим ухом смеялись, что хочется понять вашу реакцию и вкус.
— Во- первых, уважаемый Вячеслав Михайлович, вы тоже смеялись
и хорошо принимали спектакль, а во-вторых, я слышал, как вы громко сказали своему спутнику, который стоит сейчас за дверью, что Джон Рид был бы счастлив, увидев такой спектакль. Я абсолютно с вами согласен. С той только разницей, что я смотрел его только лишь на предмет возможного участия в этом спектакле.
— А кого бы вы хотели сыграть в этом спектакле, Самойлов? — неожиданно спросил Молотов.
— Если бы от вас это зависело, Вячеслав Михайлович, я бы сказал, но говорить самому об этом не совсем этично.
— Почему? – громко спросил Любимов.
— Слишком высокая планка для новобранца.
Виктор сделал странное ударение на последнем слове и Любимов, заметив это, спросил напрямую:
— И что вы считаете «высокой планкой»?
— «Высокой планкой» в этом спектакле является всё, — услужливо заметил один из актеров по фамилии Медведев.
— Так не бывает! – резко ответил Самойлов. — Но чтобы не кокетничать, я скажу прямо: я хотел бы сыграть Керенского.
— Понятно, он хочет сыграть главную роль, — вновь подал голос Медведев.
— А что же, мечтать не возбраняется, — возразил Любимов. — Это вполне вероятно. Кстати на некоторые роли мы сделаем открытый конкурс. Пожалуйста, участвуй. Согласен?
— Согласен! – покраснев до ушей, ответил Самойлов.
— В таком случае, я пришлю на ваш дебют внука, — подхватил Молотов. Можно, Юрий Петрович?
— О чем вы говорите, Вячеслав Михайлович.
И тут Любимов неожиданно предложил:
— Кстати, Вячеслав Михайлович, мы намерены пригласить вас, осенью, на новую премьеру, близкую к теме «10 дней».
Он посмотрел в сторону историка Логинова, и как бы согласовывая с ним это предложение, уверенно произнес название:
— Этот спектакль будет назваться «На все вопросы отвечает Ленин».
Воцарилась напряженная тишина. И вдруг Вячеслав Михайлович негромко, но отчетливо заметил:
— На все вопросы не ответил даже Иисус Христос.
Реплика была короткой, но впечатляющей. Даже Любимова она смутила. Но он тотчас нашелся и, словно не услышав, продолжал:
— Один талантливый драматург, да вы его, наверное, знаете Вячеслав Михайлович, Эрдман…
— Помню, помню… Автор «Мандата», большой юморист, — без энтузиазма отреагировал Молотов.
— Так вот, он советует поставить «Пугачева» Есенина. Как вы относитесь к Пугачеву, Вячеслав Михайлович?
— Я с ним не был знаком. Кажется, он был тюркским агентом, но мы его поддерживали. Человек он был наш. А вот Есенин — тот всегда был попутчиком. Но я его любил, несмотря на все его выкрутасы.
Поэт — народ особый. Они как дети, гладишь – горы свернут, ругаешь – капризничают.
Молотов помолчал, но видя, что возникла неясность, добавил:
— Но ведь с Есениным, помню, еще Мейерхольд носился. У него не получилось, может быть у вас, получится. Во всяком случае, это лучше, чем на «Все вопросы отвечает Ленин». Нельзя вождя мирового пролетариата ставить в глупое положение. В Евангелии сказано: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир». Вот когда такое чудо у нас получится, тогда ставьте, а пока я бы потерпел с пару десяток лет. Не надо забегать вперед и раньше времени отвечать на все вопросы. Жизнь не обгонишь! Вот вы, Юрий Петрович, имеете право в театре показывать невозможное?
– В театре можно все, но только при одном условии, Вячеслав Михайлович, если зритель в это поверит.
— Вот и я об этом же. Время покажет это всё: кто мы, зачем мы и в том числе — будем ли мы жить при коммунизме. Впрочем, я пенсионер и мое мнение сегодня не директивное. Мы ведь с вами просто пофилософствовали, не так ли?
Все присутствующие загудели, раздались слова благодарности и аплодисменты. Молотов, несмотря на почтенный возраст, легко встал и начал раскланиваться в разные стороны.
— Спасибо вам всем за спектакль, нам уже пора.
Он пожал руку Любимову и, проходя мимо Самойлова, неожиданно сказал:
— А вам, молодой человек, я желаю успеха. Не смущайтесь, я ведь тоже играл в драмкружке, а потом стал даже премьер — министром.
На следующем спектакле «10 дней, которые потрясли мир» Виктор Самойлов запасся биноклем, шариковой ручкой и, усевшись на последнем ряду, стал изучать спектакль, что-то помечая на полях маленького блокнота.
Это «литературное колдовство» заметил Любимов. На следующий день он вызвал Самойлова и сообщил ему, что его вводят в два спектакля: на роль друга Галилея Согрэдо и на солдата в карауле у мавзолея Ленина.
На вопрос будет ли он играть Керенского, Любимов ответил так, что Самойлов запомнил это на всю жизнь:
— Сегодня театр нуждается в вас именно в этом ролевом репертуаре. Запомните, это называется производственной необходимостью. Поработайте сегодня, дорогой мой, на театр, завтра он начнет работать на вас.
В палате у Любимова
В комнате много цветов, стало светлее и привлекательнее. У изголовья кровати на тумбочке воцарились книги, здесь же рядом мини-макет декорации к опере «Князь Игорь».
Рядом с Любимовым гость — историк специалист по древней Руси Семен Семенович. Они уже выпили немного коньку, поэтому разговор перебрасывается с одного на другое.
— А вот эта река – Чир, глубокая? – надрезая ножом апельсин, спросил Любимов.
— Чир? Надо узнать. Я там не плавал. А зачем вам глубина? Я понимаю глубина замысла, а реки- то – не все ли равно.
— Э, голубчик, Семен Семенович, это совсем не все равно. Постановщику важно знать самочувствие Игоря перед битвой. Иногда, ставя оперы, я даже примерял костюмы, чтобы почувствовать пластику и стать. В Италии я прикрепил певцов ремнями и поднял их высоко над планшетом сцены, и они пели. Один знаменитый тенор возмутился: заявил, что в этом положении его не заставил петь, даже Сталин. На что я ответил ему: при Сталине, вы запели бы на люстре.
Любимов встал и, расправив плечи, прошелся по комнате. Или другое: одно дело князь Игорь рано утром искупался, так сказать, сделал омовение, помолился, подготовился к сражению… А другое – в бой с ходу, после сообщения выставленных в степи передовых отрядов, которые обязаны в целях упреждения противника прислать вестового в командный пункт.
В последнюю войну важно было не дать противнику захватить выгодные рубежи, помешать обеспечению развертывания своих войск, овладеть важными узлами дорог, населенными пунктами, горами и перевалами.
— Юрий Петрович, вы что, маршалом были во время войны? Откуда такие знания?
— Маршалом не был, но две войны – финскую и Отечественную за своими плечами имею. Это помогло мне когда-то поставить «Павшие и живые».
— Кстати, надо перекурить! Вы не разрешите закурить, Юрий Петрович?
— А зачем вам курить? – резко ответил Любимов с каким-то кавказским акцентом.
— Лучше пейте чай! Хотите еще рюмку коньяку? – явно кого- то изображая, закончил режиссер.
Семен Семенович, почувствовав, что Хозяин играет какую-то роль, недоумевающее уставился на него.
— Не пугайтесь, профессор. Вы мне напомнили одну историю, которую я пережил во время постановки «Павших и живых». В те дни до закрытия театра я был на «воробьиный клюв» — это было в 1965 году. Меня все покинули, «Павших…» закрыли. А мы тогда играли «10 дней» в театре Маяковского. Высоцкий пришел пьяный. Неожиданно сообщили, что на спектакле будет Микоян. Я сижу один в администраторской и мрачно думаю: что мне делать. Никто мне не звонит – телефон умер.
Мистерия в театре Маяковского. Середина 60-х.
Все годы своего существования театр на Таганке подвергался сильнейшему административному нажиму. Нередко объектом глумления становился и сам Юрий Любимов. Его рассказы об этом времени полны горечи и сарказма. Эпизод, случившийся в театре Маяковского, характерный пример из его воспоминаний, которыми он охотно со многими делился:
Произошло это в кабинете администратора театра им. Маяковского. Вошел какой-то человек и спрашивает:
— Вы администратор?
— Нет, а что вы хотите? – спрашиваю я.
— Отвечайте первым, ведь вас спрашивают. Итак, кто вы?
— Я, режиссер Любимов, член КПСС. Нахожусь здесь по согласованию с руководством театра Маяковского.
— Извольте пройти с нами.
— Куда? И зачем?
— Сюда приедет известный человек.
— Я его знаю?
— Возможно. Скорее всего, да. Вам придется его встретить. Будет говорить с вами – отвечайте. Но лучше молчите. Он не любит, когда говорят другие. Подскажите куда его посадить? Проведите нас в зал. Посмотрим места.
Я их провел в зал и встал поодаль. Они осмотрели партер и стали решать, где гостя посадить. Между ними начался долгий и сквалыжный разговор:
— Давайте в первый ряд посадим, — вырвался с предложением кэгэбэшник помоложе.
— Нет, опасно, — сказал человек постарше и, видимо, повыше званием. — Место на виду. Все будут глазеть в спину, не повернешься. Артисты тут могут крутиться, еще слюной заденут.
И вдруг вспомнили обо мне и обратились за советом:
— Они в зал не прыгают у вас?
— Кто?
— Ваши артисты в зал не выходят отсюда? – и человек указал на авансцену.
Я им говорю:
— И прыгают и слюна, пардон, летит, но зрители до сих пор не жаловались. Им нравятся наши артисты.
— И куда мы тогда нашего человека посадим?
Я им предложил классический вариант — шестой- седьмой ряд.
— Вы что с ума сошли? Это ведь посередине народа. Какой-нибудь олух еще с вопросами полезет.
— Посадим вон в ту ложу. Там неопасно.
А я им в шутку говорю:
— Правильно, это царская ложа.
— Без вас догадались! – отрезал старший по чину.
* * *
Оказывается, в этот день в театр Маяковского должен был приехать Анастас Иванович Микоян – Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Когда правительственная машина подъехала к центральному входу, Любимова вытолкнули встречать важного гостя. Из машины вышел Микоян. Он весьма любезно поздоровался с режиссером и прошел в отдельную комнату. После важной встречи, Кумир направился за кулисы. Но его тотчас окликнули и остановили. Старший по званию торжественно доложил:
— Вас ждут. Идите к ложе Анастаса Ивановича. Он вас пригласил.
— Сядьте не рядом, а за ним. Естественно поговорите, если Анастас Иванович захочет с вами побеседовать. Но не проявляйте инициативы и ничего не просите. Писем никаких не предавайте!
Начался антракт. Микоян пошел в соседнюю комнату попить чаю. Любимова направили за ним. Дальше идет главная часть разговора, о которой Любимов без смеха не вспоминал:
Пьют чай. Я осмелился спросить:
— Вы не разрешите закурить?
— А зачем вам курить? Лучше пейте чай. Хотите рюмку коньяку?
— Выпью, да.
— Что с вами, почему такой неразговорчивый? – неожиданно спросил Микоян.
— Закрыли спектакль «Павшие и живые», поэтому и не в настроении.
— А что им там не понравилось?
— Ну, видимо фамилии поэтов их смущали: Коган, Слуцкий, Кульчицкий, Самойлов…
— А Самойлов тут причем?
— Ну, может потому что мы с ним писали эту инсценировку, или потому что еврей.… Ну, вы же помните эти стихи:
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы,
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы,
Кочуют с запада к востоку…
— Хорошие стихи. Странно, если он еврей, что тут такого?
— По-видимому, они решили, что в спектакле все евреи. Вот они и обиделись.
На что обиделись? Обижают врагов.
— Нет, Анастас Иванович, обижают и друзей. Первых, потому что обидеть легко, а вторых приятно.
— Странная ситуация. И что же они вам сказали?
— Они никогда не говорят до конца. Они делают всё на всякий случай. Поэтому для них легче всего закрыть спектакль. Позже предложили заменить поэтов, но перепутали. Многих они не знали. Не знали кто еврей, а кто русский.
Микоян подумал и после паузы сказал:
— А почему вы у них не спросили, разве решения двадцатого съезда отменены?
— Я, у них многое что спрашивал. Но мне, кажется, что эта ваша обязанность спрашивать у них. Вы все-таки Председатель Президиума Верховного Совета, то есть президент СССР.
* * *
Но, несмотря на подобные сцены, вокруг режиссера довольно быстро создался круг людей, которые самоотверженно его поддерживали. Одним из таких искренних помощников оказался писатель Константин Паустовский. Вот один эпизод, рассказанный Юрием Петровичем во время одной репетиции:
Как-то вечером мне в квартиру позвонили.
Доносится больной и слабый голос:
— Юрий Петрович, это Константин Паустовский.
— Здравствуйте Константин Георгиевич, рад вас слышать.
— Я слышал, что у вас большие неприятности, Юрий Петрович.
— Да, закрыли спектакль «Павшие и живые». Нависла угроза, что выкинут они меня.
— Юрий Петрович, вы знаете, мне тут недавно сказали, что, оказывается, среди моих почитателей есть Косыгин. И вы знаете, я ему позвонил и меня соединили с ним, и я ему сказал свое мнение о вашем театре и о вас, что нельзя это делать, нельзя закрывать театр и невозможно лишать вас работы, что вы этим очень себе навредите, престижу своему. Я не знаю, что из этого выйдет, но он сказал, что будет разбираться и подумает о моих словах — постарается помочь. Но я больше ничего не знаю, помогут они вам или нет. Кто их разберет.
Далее по рассказам Юрия Петровича события развивались следующим образом:
Через день рано утром в кабинете Любимова раздался телефонный звонок начальника управления культуры РСФСР:
Начальник — Юрий Петрович, вы бы не могли заехать для серьезного разговора?
Любимов — Когда?
Начальник — Поскорее насколько возможно.
Любимов — Случилось что-нибудь?
Начальник — Нет-нет, ничего. Это, знаете, так, хотелось бы кое- что уточнить.
Любимов: — Хорошо, я приеду, будем уточнять.
* * *
И вновь наши воспоминания возвращаются в сегодняшний день, в палату Склифа.
У Любимова была одна ярко выраженная черта, он никогда не начинал жизнь сначала. Подобно профессиональный боксеру, он продолжал все раунды отпущенные Богом. Даже в Склифе он умел получать от жизни земные удовольствия. На столе перед Семен Семенычев полная рюмка коньяку. Любимов строго посматривает на своего визави и повторяет:
— Хотите рюмку коньяку?
Семен Семеныч утвердительно машет головой и соглашается. Оба выпивают. После чего Кумир продолжает рассказ:
— В тот день я изо всех сил гнал свой «Москвичек» на Кузнецкий мост и думал, что, либо будет приказ об увольнении, либо найдут какой-то «ход конем» именем Косыгина.
Управление культуры РСФСР, 1965 год.
Следующей сцены, скорее всего не было. Она из тех, со слов Любимова, «где (он) привирал». Зачем это ему было нужно? Скорее всего, это азарт сочинителя и постановщика. Многие таганские актеры, это понимали, но относились, как к пятнам на солнце, которые не отбрасывают тени. В этот день Юрий Петрович вернулся из Управления культуры. Было жарко и он снял пиджак. Под мышками розовой рубашки были круги пота.
Я только что оттуда. Был у Начальника.
«Что случилось?» – всполошились все присутствующие на репетиции. Кумир отдышался и молча предался каким-то воспоминаниям. Потом вдруг азартно стал рассказывать:
Значит так: сегодня в кабинете начальника Управления культуры секретарша подает мне и начальнику чай с бубликами.
Он (секретарше). – Прошу отключить все телефоны. На звонки не отвечать. Мы будем с Юрием Петровичем разговаривать. Поняла?
Секретарша кивнула и, выходя, закрыла за собой дверь.
Он мне: — Ты можешь откровенно разговаривать?
— Да, постараюсь.
— Мы будем два часа говорить наедине. Согласен?
— Согласен, но в переговорах легче тому, кто менее зависим.
— Ты что боишься откровенности?
— А вы разве не боитесь?
— У меня отключены все телефоны. Помнишь нашу первую встречу? Я тогда тебе сказал: « Перед тем как замолчать, надо поговорить».
— Это вы Георгия Иванова процитировали.
— Ну да, ну да… Его самого. Значит, условились, как в партии: два часа ничего не бояться. Ну, ты скажи мне, только ты не стесняйся.
— Да я и не стесняюсь.
— И, слава Богу! Скажи, за все время моего руководства, неужели мы ничем тебе не помогли? Все что мы делаем, это, чтобы театр работал и развивался. И наше отношение вытекает не из благих намерений, а из понимания, что такой яркий театр Москве нужен. Почему ты молчишь? У нас ведь тоже работа не олухов. С нас шкуру дерут, если мы что-то просмотрим. Скажи, не стесняйся. Неужели наша контора не может театрам помочь?
— Нет.
— Ты это искренне?
— Так как вы просили.
— Ты считаешь, что мы никому не нужны? Почему? Я помогал, потому что верил в твой театр и желал ему успеха.
— Уважаемый Борис Иванович, вы замечательный шахматист, я – посредственный. А вот Алехин лучше нас обоих. Вы согласны с этим? — Согласен, Алехин лучше.
— Как вы думаете, Борис Иванович, если Алехин в игре против меня кому-то советовал как вести партию, кто бы выиграл: я или Алехин?
— Алехин вместе с тобой и у меня бы выиграл.
— Вот, честный ответ. Теперь ответьте на последний вопрос, кто из нас лучше разбирается в театральном искусстве, вы или я?
— Юрий Петрович, дорогой, я не рвусь в оракулы. Я поступаю так, как мне советуют умные люди.
— Вы знаете, чем больше людей участвуют в приеме спектакля, тем хуже он становится. Это еще Станиславский заметил.
После этой фразы они надолго замолчали.
— Давайте, Юрий Петрович, чтобы не оказаться на краю обрыва, во время расстанемся. Он позвал секретаря и велел включить все телефоны. – Всего доброго, Юрий Петрович.
Снова в палате Склифа.
— Вот, так, дорогой Семен Семенович, спектакль пошел и всегда имел успех. Правда, пожарники хотели затоптать Вечный огонь, который впервые зажжен был мною в «Павших» — еще не горел огонь у Кремлевской стены. Я сказал: попробуйте, затопчите. Они мне: нет, вы сами погасите. Я им: я не погашу! — Погасите при свидетелях, чтоб видели, вы вот затоптали павшим огонь.
Один генерал – начальник их, когда увидел, что весь зал встал с минутой молчания, когда зажгли вечный огонь на сцене павшим, сказал: «Пусть будет, я беру огонь на себя». И еще спросил: «Есть у тебя коньяк? Пойдем, помянем».
Любимов разливает остатки коньяку.
— Юрий Петрович, я заметил, что вам левой рукой разливать сподручней.
-Правильно заметили, Семен Семенович, я ведь левша. С какой руки разливаешь, им все равно, а вот, сколько будем помнить – столько и жить будем.
— Вот и мы, Семен Семенович, «давайте выпьем, мертвые, во здравие живых».
Выпивают.
В этот момент в палату входит жена Катерина.
Пауза.
— Это вы так лечитесь, Юрий Петрович?
— Нет, Катя, мы вживаемся в предлагаемые обстоятельства. Видишь – я князь Игорь, а профессор Семен Семенович — «Слово о полку Игореве».
1967 год. Тени забытых «оракулов».
Этот эпизод стал известен, через аппаратных работников на Старой площади. Это происходила в одном из кабинетов секретаря ЦК партии. Высокому начальству, стоя навытяжку докладывает, подсматривая в бумаги, чиновник помоложе и помельче рангом.
— После «Павших» он совсем, можно сказать, оборзел.
— Ну-ну, не надо так о наших мастерах.
Чиновник (извиняющимся тоном). — Простите.
— Алексей Николаевич просил присмотреть, помочь… Вот ведь зам. завотделом культуры Куницин как-то сумел с ним найти общий язык. Он мне докладывал. Сократили в «Павших и живых», что вызывало недоумение и вопросы, и спектакль, теперь говорят, пользуется успехом.
— Так у них на Таганке все держится на ажиотаже. «Антимиры» по три раза в день дают. Поэт так себе, а народ прет на этого Вознесенского.
— Хорошо, то есть ладно. А что с нашим Маяковским? Как он назвал спектакль?
Чиновник. — «Послушайте». А с этим спектаклем и того хуже. Вот я сделал некоторые выписки обсуждения.
— Ну, прочтите что-нибудь.
— Например, обыватель Калягин (такая фамилия у актера) с торжеством заявляет, что В.И. Ленин похвалил только одно стихотворение «Прозаседавшиеся» — Маяковского.
-Так, интересно. Еще что?
— Ленинский текст издевательски подается из окошка, на котором, как в уборной, написано «М».
— А что-то оригинальное есть в спектакле? Он же мастак на выдумки.
— Есть, но вы не поверите: в спектакле Маяковского играют пять человек. В том числе и Высоцкий.
— Как он играет?
— Так же как и поет – хрипло.
— Общий вывод?
— Форма спектакля вошла в противоречие с его пессимистическим мрачным содержанием.
— Что собираетесь делать?
— Закрыть!
— Правильно, но есть тенденция…
— Какая еще тенденция? Он плюет в лицо нашей родной Советской власти, он никого не боится… Нам Робин Гуды в театре не нужны. Это идеология, Михаил Андреевич – профукаем здесь – появится дыра, которую не залатать.
— Кто сказал про Робин Гуда?
— Один критик.
— Вот поручите ему соответствующую статью. А пока не трогать. Какой у него следующий сеанс?
— «Пугачев» Сергея Есенина. Только это не сеанс, а спектакль. В смысле постановка в театре.
— Я знаю, что спектакль. Это у других спектакли, а у него «сеанс гипноза». Его надо приручить: пусть Фурцева даст ему что- то масштабное — юбилейное! Надо повесить ему ордена, дать больше денег…Художника покупать надо, подсказывать, вести за руку… Ру-ко-во-дить. Подумайте. А «Пугачев» Есенина — это хорошо. Русский поэт — песенник, это же не Пастернак, с которым мы измучались в свое время. Идите и работайте.
Сумасшедшая, кровавая муть
В этот день наверху, в буфете собралась почти вся труппа. Здесь были актеры Губенко, Высоцкий, Насонов, Самойлов, Хмельницкий и А. Васильев… На столе поставили макет к спектаклю «Пугачев» по драматической поэме С. Есенина. Неподалеку от стола устроились писатель Эрдман и художник Ю. Васильев. Любимов снял куртку и, указывая на макет, начал говорить:
— Значит так, начнем, пожалуй.
— Николай Робертович Эрдман, который присутствует здесь (жест в сторону сидящего Эрдмана), все время уговаривал меня поставить «Пугачева». Правда ведь, Николай Робертович?
— Правда, — слегка заикаясь, ответил Эрдман. — Я и Мейерхольда уговаривал. Но Всеволод Эмильевич просил Есенина дописать. А Есенин отказался.
— Вот видите и я до сих пор был ни в какую. Я Николаю Робертовичу все время говорил, что мне нравится эта поэма, но я не знаю, как её ставить. Я понимаю, почему Мейерхольд просил дописать и почему Есенин отказался. А как ставить, понять не мог. И только когда у меня в башке родился этот образ – плоскость, которая наклонена чуть ли не на сорок пять градусов в зрительный зал, а в конце плаха, я понял, что можно играть. Я свяжу пугачевцев одной цепью, всобачу им топоры и босиком, в холщевых штанах, подпоясанных веревками, мы сыграем эту уникальную поэму. Хотя пьеса короткая, в одном действии, но могучая.
Неожиданно включается запись монолога Хлопуши в исполнении Сергея Есенина:
Сумасшедшая, бешенная, кровавая муть!
Что ты? Смерть или исцеление калекам?
Поведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Запись выключается. Любимов восторженно оглядывает всех присутствующих.
— Видите, какая мощь в стихе, и стих этот очень вольный. Видите, какой у Есенина глубокий баритон и бешеный темперамент. Есенин все время выражает свое отношение к природе, к жизни, к звездам, к свободе…
Чтобы не сдохнуть, ставя эту поэму, я попросил Николая Робертовича, кстати, друга Сергея Есенина, написать интермедии. Позже он нам их прочтет.
В гуще актерской группы кто-то поднял руку. Это Самойлов, на которого все уставились с недоумением:
— Что Самойлов, тебе что-то неясно?»
— Простите Юрий Петрович, но мне «что-то» неясно.
— Что тебе неясно, Самойлов?
— А о чем все-таки будет этот спектакль? Про что будем играть?
Любимов подбоченился и вдруг на бешеном темпераменте прочитал строки из поэмы:
Чтоб с престола какая-то б…
Протягивала солдат, как пальцы
Непокорную чернь умерщвлять…
Раздались аплодисменты.
— Теперь тебе ясно, Самойлов?
— Да, Юрий Петрович, ясно. Скажу откровенно, хочется играть в этом спектакле.
— И я тебе скажу откровенно, Самойлов, будешь играть в этом спектакле. Раздался хохот, некоторые актеры стали пожимать руку находчивому коллеге.
Кабинет Любимова. Все актеры с текстом пьесы приготовились репетировать.
Любимов
— Прошу начать, сразу привыкайте к стиху, чувствуйте есенинскую музыкальность. Коля, начинай!
Губенко, ударив стол руками, встает и, на удивление всем, наизусть начинает читать первый монолог Пугачева. Все застыли от изумления. Когда монолог закончился, Любимов, остановив репетицию, заметил:
— Вот, как надо готовиться к репетиции. Молодец, Николай. А сейчас небольшой перерыв, мне надо поговорить с директором.
Кумир прошел в пустой кабинет Дупака и стал звонить жене.
— Люся, мне что-то плохо. Желудок режет невыносимо, я даже репетицию остановил.
— Ты откуда звонишь?
— Из кабинета Дупака.
— Сиди там! Я вызываю скорую и еду к тебе.
Операция «Ю.П.»
По шумной Москве едет скорая. Кумира везут в больницу. Затем на каталке перемещают в операционную, где над ним начинает «колдовать» хирург. И вот он уже в палате. Рядом Люся, с авоськами и книгами.
— Ну и крепкий ты, черт, Юрка. Словно и операции не было. Выглядишь, на какие-нибудь 37 лет.
— Понятно, значит, верховному распределителю уже не гожусь.
— К чему это? Целует его.
— В России, кому предписано, больше тридцати семи не живут.
— Не занимайся кладбищенской арифметикой – у тебя другая судьба. Тебе надо вкалывать. У тебя смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного. Вот я тебе принесла журнал «Новый мир» с повестью Можаева, новый перевод «Тартюфа» Мольера, сделанный М. Донским. Все, как ты просил. Тебе, мой дорогой, предписано три раза жить по тридцать семь.
— Ты была в театре? Что там с Пугачевым?
— Смотрела с балкона репетицию. Губенко и Высоцкий на репетиции не ходят, ждут тебя. Режиссер этот, Голдаев, старается, но никто его не слушает. Поэтому все репетирует вразнотык: бегают голыми, трясут яйцами и топорами, а мне не страшно. Один Самойлов толково работает. Хорошего парня взял, будет из него толк. Правда, спорщик он отчаянный. Голдаев его боится и со всем соглашается. Скорей бы Юрий Петрович вышел, — говорит завтруппой. — Как её?
— Галина Николаевна.
— А то и Есенина разлюбят.
— Не разлюбят. Что у тебя в театре?
— У меня, — смотрит на часы, — через час репетиция. Ремизова вводит нового Мышкина. Молодого выпускника из Щукинского училища. Какая я с ним Аглая?
Юра, ты возьмешь меня к себе, если что?
— Ты хочешь и театром руководить?
— Я с тобой хочу сделать Пушкина.
— Делай инсценировку.
— А ты поможешь?
— Помогу, ты же без Дантеса не обойдешься.
— Увы, я давно уже не Натали.
— Перестать, тебе нет износа, Люся.
— Дурачок, что за сомнительный комплимент актрисе? Нет износа! Вот когда ты вернешься домой, посмотрим, кому не будет сноса. Она наклонилась над ухом Кумира и что-то заговорщицки зашептала ему. Затем поцеловала и, попрощавшись, быстро вышла из палаты.
Мейерхольд или Станиславский
Сцена театра на Таганке. Идет сдача спектакля по драматической поэме С. Есенина «Пугачев». В цепях бьется Хлопуша-Высоцкий, выкрикивая знаменитые есенинские строки:
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Зрителей на просмотр не допустили. В центре, за режиссерским пультом сидит Любимов, рядом директор театра Дупак и несколько человек из постановочной группы. Впереди, в седьмом ряду расположилась комиссия: присутствуют сестры-старушки Есенина. Лица у членов комиссии напряженные, многие недовольны. В глубине зала, в её слабо освещенной части под балконом, пристроились Алиса Чернова, Люся Животова и Владимир Насонов. Спектакль им явно нравится. Глаза их наполнены сопереживанием и восторгом. Особенно, когда роль Бурнова- Торнова исполнил Виктор Самойлов. После его куска девочки даже негромко захлопали, но строгий взгляд Любимова охладил их пыл. Но вот спектакль закончился и члены комиссии, молча, направляются в кабинет Любимова, где рассаживаются в кресла, с любопытством рассматривая стены, расписанные автографам известных людей.
Полный господин, видимо глава комиссии, негромко обращается к одной из сестер — Есенина:
— Вот видите, Екатерина Александровна, Юрий Петрович не доверяет таланту Вашего брата. Ему понадобились какие-то интермедии. Это что же намеки на сегодняшнюю власть?
Сестра Есенина недовольно машет головой — дескать, недопустимо обошлись с великим поэтом.
— Уважаемая комиссия, — перебил этот междусобойчик Любимов, — если обсуждение началось, то я сразу хочу внести ясность: это не какие-то там интермедии, их написал не кто-нибудь, а замечательный драматург (обращаясь к сестрам) между прочим, друг Сергея Александровича – Николай Эрдман.
— Тем более, если друг, — нервно заголосила худая дама неопределенного возраста, — разве непонятно, что поэзия Есенина несовместима с этими «царскими байками». Царица зубоскалит, сидя не на троне, а на плахе. Приличная артистка Ульянова, а выглядит на этом бревне, извините, прямо скажем, двусмысленно. Это же царица, а не «Параша — наперсница ее затей».
Представительный мужчина из комиссии тотчас подхватывает:
— И немудрено, надо же поиграть на теме царских фаворитов.
Потемкин с кленовым листком на причинном месте. Неужели вы не понимаете, что это пошло!
Слово берет Николай Эрдман. Любимов его еще раз представляет:
– Вот послушайте, что скажет автор «Мандата» и Самоубийцы».
Эрдман непривычно волнуется. Когда он начинает говорить, заметно, что он заикается:
— Во-первых, да-вай- те го-ворить по-по существу. Одно из лучших, ни -когда не ставленых произведений Есенина, его дра- матическая поэма, наконец-то, поставлена на сцене советского театра. Это огромное событие, товарищи. Этого не смог сделать даже Мейрхольд. Это сделал – Любимов! И за это одно, я полагаю, мы должны ему быть бла-годарны. Когда состоялось столь большое театральное событие, кр-итикам следует прежде всего говорить об этом. А вы об интермедиях. Дались вам эти интермедии! Причем тут это?
— Так это же ваши интермедии, ваши намеки, ваши подтексты, — стала выкрикивать дама неопределенного возраста.
— Простите, я вас не перебивал, когда вы вместе с вашим коллегой о причинном месте фан- та-зировали. Есть талантливый коллектив, есть замечательный спектакль и, наконец, есть режиссер, который в короткое время из богом забытого театра сделал один из самых интересных театров Москвы. Перед вашими глазами огромный труд. Неужели доброго слова не найдется в ваших оценках! Нельзя же с этим театром делать одно и то же – «держать и не пущать».
Неожиданно с места вскакивает во весь рост глава комиссии. Его мясистое, красное лицо полно возмущения.
— Дорогой товарищ Эрдман, спасибо вам за большое эссе, посвященное задачам советского театра! Но, простите, нам здесь адвокатов не нужно! К тому же, у нас с вами разные миссии. За то, что играют в Москве, есть организации и люди, которые за это отвечают. Это должно быть ясно каждому из здесь присутствующих. У советского театра, о котором вы с ироническим подтекстом упомянули, товарищ Эрдман, есть миссия. Она проста и сложна одновременно. Эта миссия — реализация театральной эстетики общества, напомню, советского общества, строящего коммунизм. Мы, как и вы, люди театральные, достаточно театральные, Николай Робертович, и воспитывались не только на Мейерхольде, но и на реалисте Станиславском. Великом Станиславском!
А что делаете вы, Юрий Петрович? Вы такой реалист, такой последовательный поклонник системы Станиславского, разве вы не видите, что поставили оперетту. Разве так читают стихи? Да, есть запись Есенина, где он замечательно воспроизводит монолог Хлопуши, но ведь у вас совсем не то. За гремящими цепями и бьющемся в каком-то алкогольном экстазе Высоцком – Хлопуше, все пропадает. Это же оскорбление Есенина. Вместо Есенина, вы выпячиваете постановщика, то есть себя любимого. Ведь так Екатерина Александровна?
Одна из сестер – старушек Есенина, начинает поддакивать, но её негромко, но внятно вдруг обрывает другая:
— Что ты говоришь! Он бы счастлив был, что это поставили. Тебя они напугали, что пенсию отберут, вот ты и ведешь себя так!
И начался скандал. Любимов вскакивает с места и кричит:
— А, вы, оказывается, шантажом занимаетесь, запугиваете старых людей! Стремительно подойдя к двери, Кумир яростно распахивает её со словами:
— Уходите из моего кабинета, чтоб не видел я вас тут.
Все перепуганы. Комиссия, молча, выходят из кабинета. Какая-то дама шепнула на ухо режиссеру:
— Снимите интермедии, тогда спектакль пойдет. Она прикрыла губы указательным пальцем и исчезла за дверью. В кабинете остается только Любимов и Эрдман.
Кумир, плотно закрыв дверь, достает из шкафа бутылку водки и разливает в маленькие рюмочки. Оба молча, выпивают. Эрдман по-отцовски обнимает Любимова и спокойно говорит:
— Юра, спектакль получился, играйте без моих интермедий.
Сразу после «провала»
После неудачной сдачи спектакля Насонов и Алиса Чернова пригласили Виктора Самойлова к себе. Ехали на такси. В районе ВДНХ заскочили в магазин и в складчину купили водки, шампанского и с десяток котлет. Комната в коммуналке оказалась прямоугольной, но с большим круглым столом, металлическими раскладными креслами и старой, широкой кроватью из красного дерева. Постепенно все уселись за столом. Алиса притащила из кухни, слегка пережаренные котлеты.
— Чуть заболталась по телефону, и корка почернела, — оправдывалась она, раскладывая котлеты по тарелкам.
Самойлов, ткнул одну котлетину вилкой и возвестил:
— Съедобно! Поехали!
Насонов закончил разливать спиртное и уже собрался произнести тост, как его перебил Самойлов.
— Володя, минутку. Ребята, давайте, прежде всего, выпьем за вас, за вашу прекрасную берлогу. С новосельем, друзья мои! Для начала — высший пилотаж. Молодец, Алиса! Телевидение, оказывается, умеет ценить кадры.
— Но не торчать же, в Областном театре, где кроме вводов и обещаний ничего не было!
— Когда у тебя эфир?
— В следующем месяце. Пока на подстраховке. Дважды читала вечерние новости.
— За диктора Центрального Телевидения Алису Чернову, за вас ребята! Ура! – прокричал Самойлов.
Все выпили.
— Какой ты молодец, Витька, — заговорила Алиса, снимая вилкой у котлеты подгоревшую корку, — умеешь поднять настроение.
А Насоныч хлобыстнул и уперся в тарелку. Чего ты нос повесил? – обратилась она к мужу. — Ну не сыграл ты сегодня Хлопушу — завтра сыграешь. Сам понимаешь, в первом составе должен играть Высоцкий. Это аксиома театра — ставят популярного и, кстати, не факт, что сильнейшего.
— Не согласен, — вмешался Самойлов, — Высоцкий работает первоклассно, но и Насоныч ничуть не хуже. У тебя, Володя, был прекрасный на той неделе прогон.
— У него концерт был… Поэтому у меня прогон был.
— А по фактуре ты даже больше подходишь, чем Высоцкий. Но дело не в этом. Спектакль не принят и все теперь непонятно, как у Губермана.
— А что там у этого Губермана? – спросила Алиса.
— Это Насоныч цитирует его вот уже вторую неделю. Ну-ка, выдай, Вольдемар.
Как там: «Нам непонятность ненавистна в рулетке радостей и бед. Мы даже в смерти ищем смысла, хотя его и в жизни нет».
— Давайте разольем для начала, — заговорил, наконец, Насонов, и разлил водку по стаканам.
— Володя, не части, — резко одернула мужа Алиса.
— Ты понимаешь, Виктор, — продолжала Алиса, — этот «Пугачев» его алкоголиком сделает. Каждый день после репетиции горе заливает. Приеду с телевидения, он уже на взводе. Милый мой, театр надо любить при любом раскладе. Придет время, сыграешь! Я ведь тоже жду… В ожидание есть свой смысл. Помнишь реплику из «Оглянись во гневе»:
«Тот, кто любит, ни секунды не сомневается в смысле жизни».
— Я хочу выпить за Витьку, — перебил жену Насонов, — замечательно играешь ты, старик.
— Да, ты молодец, Виктор, — подхватила Алиса. — Ты мне понравился. За тебя!
— Хорошо-хорошо, за меня так за меня, но и за Губермана, хотя его здесь нет, — отшутился Самойлов.
— Дался вам этот Губерман, — рассердилась Алиса. — У нас на телевидении столько Губерманов, что глаза разбегаются.
— Некоторые из них и сюда звонят, — с подтекстом вставил Насонов.
— Надо привыкнуть, Володя. Это – телевидение. Оно ни с кем не считается. У нас текст за кадром, и он, как у минера, ошибка и – выкинштейн! И тогда эта комната – раем покажется. Стук в дверь.
Голос из-за двери:
— Алиса, телевидение!
— Ну вот, что я говорила.
Алиса вскакивает и бежит через коридор к телефону.
— Я слушаю!
В трубке: «Алиса, тут надо почитать за кадром. Выручай. Конечно, вызываем без предупреждения, но что поделать. Горим! Я могу послать машину, она тебя довезет в Останкино».
— Вы понимаете, мы тут собрались после спектакля…
— Какого?
-«Пугачева» на Таганке.
— Ах, вот что? Ну и как?
— Вот, отмечаем… премьеру.
В трубке послышалось едкое подсмеивание.
— Алиса, не сочиняй, не надо! Наши были на прогоне. Ждали до конца, хотели взять интервью у Любимова – спектакль не приняли. Нельзя мне девочка врать, нехорошо… Я ведь тебе говорил: у нас с тобой большие планы, Алиса, их можно осуществлять, только доверяя друг другу. Не хочешь работать, так и скажи… Я буду знать и свою ответственность, и твою благодарность.
— Через сколько времени надо быть на смене?
— Машина будет через двадцать минут. Черная «Волга». За тобой приедет Степан Иванович.
— Хорошо. Следующую фразу Алиса уже говорит громче, чтобы слышали соседи: «А текст большой?»
— Очень большой и хорошо тебе знакомый.
— Хорошо, присылайте машину. Я через двадцать минут спущусь. Медленно положив трубку, она идет по коридору. Вдруг поворачивает в сторону и спешно проходит в ванную комнату. Это токсикоз. Она открывает кран, включает воду и замирает, оперившись локтями на раковину.
В ванную заглядывает соседка.
— Алиса, тебе плохо?
Алиса машет рукой и сиплым голосом оправдывается.
— Водка – дрянь… Сейчас пройдет, не беспокойся Клава…
В комнате Насоныч достает из трехлитровой банки помидоры, разливает водку и тянется со своим стаканом к Самойлову.
— Вова, куда ты гонишь? Смотри глаза у тебя в бок поехали и красные…
— Эти глаза напротив и… больше пили.
— Притормози, Володя. Помнишь, на третьем курсе Зифа раздала анкету о самом ярком театральном событии года? Тогда, весь курс написал – «Добрый человек из Сезуана». Давай выпьем за Мастера. Ему сейчас во сто раз тяжелее, чем тебе, мне и всем нам. Он держит удар! Пусть этот русский бунт, бессмысленный и беспощадный, будет! И будет на нашей таганской сцене! За «Пугачева», — выпивает.
— Ты прав! Ему тяжелее… Хорошо сказал, старик. Молодец! Давай, пока её нет. Выпивает и надкусывает помидор. Изо рта брызжет томатный сок.
— Ну вот, весь стол покрасил, — огорчился Самойлов. — Дай тряпку, а то Алиска драндулей нам даст.
— Пошла она в одно место…
— Вова, что у вас? И года не прошло, как поженились, а ты уже её посылаешь…
— Ерунда. Все пройдет. А вообще надоела её раздражительность, плаксивость и главное, наша… бесхозность. Она на телевидении — я один, она на съемках — я в театре… Жрем котлеты, пьем — вскладчину… Денег нет, одни долги. Не женись, Витя, рано, даже на любимых. А тут еще в запасе в театре держат. В «Послушайте» вроде одного из Маяковских играю, а он, видите ли — молчун!… По замыслу режиссера: наступает на горло собственной песне…
— А мне, кажется, ты не прав. И придумал такого Маяковского еще Смехов, когда писал «Послушайте» и, слава Богу. И играешь ты, хорошо! Ты же понимаешь, что не в количестве текста успех. Запоминают образ, а он у тебя получился.
Насонов снова наливает себе водки.
— Тебе пить вредно, Володя.
Самойлов пробует отнять стакан.
— Спокойно, я только половину, пока её нет. Выпивает полстакана водки и салфеткой начинает вытирать стол.
Входит Алиса. Заметив какой «уборкой» занимается муж, брезгливо спрашивает:
— Тебя вырвало, что ли?
Самойлов приходит на помощь:
— Нет, это помидор… Лопнул у меня во рту…Закусил и бац – фонтан!
— Я смотрю, вы бутылку почти отбацали… Ну да ладно… Я уезжаю, ребята. Вызвали на вечернюю смену, работать за кадром.
Вот так! Машина вот- вот приедет.
Алиса проходит к шкафу, берет цветастую кофточку, сумку и считает деньги… Потом долго смотрит на пьяного мужа и, окинув рукой комнату, говорит:
— Вот она, жизнь в разрезе. Все, я пошла.
Подходит к Самойлову, рукой проводит по голове и неожиданно срывается:
— Пить надо меньше, Насонов. С виду гигант, а внутри теленок. Все я — на телевидение. Уходит.
Морду надо бить
Киевский вокзал. Поздняя электричка. Полупустой вагон. Самойлов устроился в конце вагона, слегка подремывает. Входит Татьяна – белокурая, высокая и привлекательная девушка. На ней осенняя куртка, короткая юбка и черные сапожки. Садится неподалеку, в уголке, где нет пассажиров.
Наконец объявление, что поезд трогается. В последний момент, хлопая дверями, вваливается компания молодых людей: трое мужчин и одна разбитная, ярко размалеванная девица, во входящих тогда в моду лосинах, и кожаной куртке с металлическими украшениями. Эти подражатели «хиппи» устраиваются рядом с Татьяной.
— Опа, да мне повезло, — возвещает один из ребят, — какая газель наклюнулась.
— Привет, красавица, я Сенька, — обращается к Татьяне крепыш среднего роста, — а вообще, среди наших пацанов, Сэм. Давай знакомиться, красавица. Тянет руку.
Татьяна отворачивается и молча, смотрит в мелькающие за окном огни.
— Ты посмотри, наша телка, оказывается недоступная, с мальчиками не чикается, носик – поворотик. А если вот так?
Сэм отодвигает Татьяну от окна и разворачивает её к себе. В этот момент между окном и Татьяной садится другой парень, и они оба крепко прижимают девушку.
Долговязый парень с копной волос и большим кадыком на шее, в пестром пиджаке и тонких перчатках, начинает перед Татьяной руками изображать «хирурга», готового ущипнуть её за интимное место.
— Мы пока знакомимся, правда, Лара, — нашептывает Долговязый своей спутнице, — а можем вас представить на общедоступные торги, где – нибудь на… сеновале.
Хохочет.
Вы до какой станции, Одри Хёбберн?
— Слушай, недотрога, — подала голос девица, — не ломайся!
Мальчикам скучно, поболтай, покажи, что ты… лизуньчик, паинька. Я по глазам вижу, что ты устала после свиданки. Мы мирные люди… Просто веселимся.
— Оставьте меня, — резко ответила Татьяна и попыталась перейти в другое место. Но ей не дали и с силой посадили на место. Долговязый длинными руками обхватывает руки Татьяны и быстро целует её в щеку. Та разворачивается и дает ему звонкую пощечину. Наступает зловещая пауза. Первым реагирует Крепыш:
— Ты посмотри, курочка начинает распускать крылья. Жора, посмотри, целка она или нет.
Сидящий в одиночестве юнец, с угла скамейки прокатывает напротив Татьяны и быстро лезет ей под юбку. Татьяна, недолго думая, ударяет его ногой. В ответ тот дает ей пощечину.
Самойлов срывается с места, подбегает к юнцу и одним ударом вырубает его. Компания в шоке. Воспользовавшись этим, Самойлов с силой вырывает с места Татьяну и толкает её за свою спину. Очухавшиеся от испуга, трое парней вскакивают и с криком и матом бросаются на Самойлова. Однако в проходе тесно и воспользоваться большинством, не получается. Тем временем Самойлов успевает еще несколько раз ударить наподдавших. В это время диктор объявляет станцию «Матвеевская». Татьяна, оглядываясь, направляется к выходу. Самойлов, с трудом отбиваясь, отступает к двери и успевает захлопнуть её, прямо перед носом озверевших хулиганов.
Схватив обеими руками ручки, Самойлов не дает нападающим открыть дверь до самой остановки. Наконец объявляется станция «Матвеевская. Татьяна спрыгивает на платформу и следом выскакивает Самойлов. Чтобы хулиганам не дать выйти из вагона, Самойлов проявляет на платформе чудеса «боя с тенью». Но вот дверь закрылась, мелькнули озлобленные лица хулиганов. Самойлов оборачивается и видит, что спасенная им девушка со всех ног убегает от него по ступенькам к дороге.
— Стойте! — крикнул он. — Стойте! Куда же вы? Это я! Не бойтесь! Они уехали!
Наконец девушка останавливается и оборачивается на выкрики. Увидев, что Виктор один, она бросается к нему и, к удивлению Самойлова, заключает его в объятия.
От спасения до любви
Длинная дорога от станции «Матвеевская». Справа — силуэт строящейся Москвы, которая «дошагала» и до этих мест. Слева – деревянные дома, за которыми приусадебные участки, в отдалении – опустошенные, заброшенные колхозные поля. Молодые люди доходят до одноэтажного бревенчатого сруба. Через маленький дворик подходят к дверям.
— Ну вот, здесь мы и живем.
— Неплохо. На земле жить – лучше не придумаешь.
— Нет, у нас есть квартира и в Москве. На Беговой.
— А это, стало быть, дача?
— Да, но я здесь редко бываю. Просто родители сегодня решили приехать сюда. Буду помогать. Надо двор убрать, набрать на неделю картошки, капусты, моркови… У папы здесь… самогонка…
— Он любит выпить?..
— Пожалуй, да…
— А вы?
— Я? Я тоже, пожалуй, да.
— Ну, вот… На этом придется прощаться. Угостить вас за спасение, конечно, следовало бы, но самогонка в подвале. Поэтому в следующий раз.
— А когда?
— Когда скажите.
— Сегодня утром. Я сейчас начну убирать двор и до рассвета закончу.
— Я смотрю, да вы шутник, езжайте домой. Там, около Кунцева, всегда можно поймать такси. Здесь пешком километр.
— А вечером вы будете здесь?
— Да, и субботу и в воскресение мы будем здесь.
— А вечером я могу подойти, я тут недалеко живу. Снимаю комнату.
— Вы не москвич?
— Нет, я москвич, но пока не переехал в комнату, которую получил от работы.
— А где вы живете?
— Я живу в Востряково.
— Хорошо, приходите в шесть вечера. Погуляем. Здесь в клубе каждую субботу танцы. Вы танцуете?
— Я отлично танцую.
Самойлов отошел в сторону и сделал сложное фуэте.
— Здорово. Вы что, солист Большого театра?
— Нет, маленького, на Таганке.
— Хорошо, с вами весело, но надо идти. Пора спать, а то вечером не увидимся.
Таня тронула дверь, но та не открылась…
— Придется звонить. Я просила оставить дверь открытой, а родители заперлись. На всякий случай она пошарила рукой над притолокой и вдруг нашла ключ.
— Смотри-ка, их, оказывается, нет. Не приехали. Странно!.. Она взглянула на Самойлова и, видя его неприкаянность, объявила:
— Пожалуйста, если хотите, можно ненадолго войти… Погреться…
— Я вам сделаю чай.
Она вошла в дом первой и включила свет на кухне. Затем прошла в глубину дома и, вернувшись, сообщила:
— Пусто. Их нет. Садитесь, будем пить чай. Конечно, можно покрепче… Я самогонку не люблю, а вам для снятия стресса могу налить. Хотите?
— Что вы имеете в виду под «стрессом»: спасение прекрасной дамы или битва за её достоинство?
— Вы что совсем не испугались?
— Да, мне свойственно бесстрашие. Мой отец защищал Сталинград и, к тому же, я зачат в окопе.
— Здорово! Значит так, хвастун, как вас зовут?
— Виктор.
— Значит так, Виктор, ставьте на газ чайник, открывайте холодильник и готовьте бутерброды, а я в подвал, за самогонкой.
Конец интермедиям
Поздним вечером раздался телефонный звонок в квартире писателя Николая Эрдмана. Из глубины спальни послышался голос жены писателя, известной балерины.
— Николаша, подойди к телефону, я уже легла.
Эрдман встает из-за письменного стола и направляется в коридор. Берет тяжелую трубку старого, черного цвета телефона.
В трубке голос Юрия Любимова:
— Николай Робертович, это я – Любимов. Звоню вам весь вечер – никто не берет трубку.
— Юра, мы недавно приехали, были в гостях у Сережи Юткевича. Кстати, он просил передать тебе привет. Я ему рассказал про «Пугачева», про это злосчастное обсуждение, когда ты их всех вытолкал.
— Так вот, я, поэтому вопросу и звоню. Мне еще днем позвонил начальник управления, и спектакль разрешил, но…
— Что ты замолчал, Юра… Разрешил без моих интермедий?
— Не совсем так. Я был у них и кое- что отстоял, буквально по репликам в каждой интермедии.
Эрдман тяжело вдохнул, и тотчас почувствовал, что за спиной жена. Он резко развернулся и, закрыв трубку рукой, шепнул:
— Любимов. «Пугачева» разрешили. Продолжил разговор через паузу.
— Я уже тебе говорил, Юра, ради спектакля надо играть без интермедий.
— Николай Робертович, я им сказал, что буду еще советоваться с вами, но предположил что, скорее всего, вы не будете возражать.
— Юра, я не возражаю. Поздравляю тебя. Это – победа! Это огромное событие, что Есенин пойдет на сцене твоего театра. Ни одному нашему поэту эта власть не уготовила такое славное бесславие, как Сергею. Вот уж кто гений чистой красоты, так это Сережа. А обо мне не беспокойся: что оставишь и на том спасибо. Единственно, не ставь мое имя в программке, пусть будет имярек. Спокойной ночи, Юра.
— Постойте, Николай Робертович, спектакль пойдет в воскресение вместо вечерних «Антимиров». Вы будете, места вам оставлять?
— Нет, в воскресенье не смогу. У нас уже есть планы. Обязательно приду позже, когда спектакль раскатается. Еще раз поздравляю, Юра.
Помни, Господь не любит боязливых. Он начинает помогать, когда видит, что ты работаешь. До встречи, Юрий Петрович.
Эрдман положил трубку и заметил недовольное выражение на лице жены.
— Что ты встала? – спросил он её неохотно.
— Да меня из постели вышибло, когда я услышала твои поздравления. Ну что, разрешили спектакль без твоих интермедий? Ведь так?
— Да.
— И это все? С нами покончено?
— С нами давно покончено.
— Ерунда! Коля, ты гениальный драматург. Запомни, у нас еще все впереди! Когда эту самоубийственную власть вышибут, твой «Самоубийца» будет над ними смеяться.
— Ты думаешь, другая лучше будет?
— Другой до тебя не будет дела. А с этой вам надо бороться.
— Как? Что ты хочешь? – нехотя спросил Эрдман.
— Я хотела бы другого! Ай — я-я-я-а! Вот и приятель! Видишь, как он поступил?
— Ну что он мог сделать?
— Все, но только не предавать! При Сталине возражали и побеждали! А сейчас, что мешает стукнуть кулаком и снять спектакль? Вот это был бы поступок друга. Что, его расстреляли бы за это? Или разжаловали? Нет же! Как хочешь, но я этого так не оставлю.
Она легко развернулась и направилась в спальню на свое место.
Эрдман медленно прошел вдоль стен коридора, заполненных старыми фотографиями (в том числе Станиславского и Мейерхольда), и побрел в кабинет, где тяжело опустился на привычное место.
Голубятня и Сталин
Самойлов проснулся с головной болью. Кровать стояла у окна, и он заглянул наружу, какая за окном погода. Все было превосходно: дождя не было, солнце светило приветливо, все было хорошо, если бы не голова, которая с утра казалась лишней. Вдалеке, на участке возвышалась голубятня. Присмотревшись, он понял, что голубей нет. Размяв шейные позвонки, он присел на постели и стал прислушиваться. За стенкой, где должна была спать Татьяна, не было, ни звука. «Спит еще, — прикинул он. — Перепугалась вчера – теперь отсыпается. Ладно, пойду схожу в туалет». Он накинул брюки и босиком отправился на кухню, от которой по коридорчику располагался крошечный туалет.
К своему удивлению, на кухне Виктор увидел, опрятно одетую Татьяну, приготовленный завтрак и кофейник, распространявший запах натурального кофе.
— Привет. Ты, что не спала? Или это сюрприз?
— И то и другое.
— Откуда такой кофе?
— Из Малого театра?
— Что? Из Малого театра?
— Да в театральном буфете сломалась кофейная машина, папа выкупил, починил, и мы теперь пьем натуральный кофе.
— Неужели папа актер Малого театра?
— Нет, папа рабочий сцены Малого театра.
— Как так? У тебя папа рабочий сцены?
— Да, после тюрьмы его приняли на работу только в театр.
— А что он делал в тюрьме?
— Сидел.
— Я понимаю, что сидел. Но за что?
— Вот за это? Она подошла к окну и показала на голубятню.
— Из-за голубей?
— Нет, из-за бинокля.
— Прости, я накину рубашку, сбегаю в одно место, и тогда ты мне все расскажешь.
Когда он сел к столу, Татьяна придвинула ему чашечку кофе и бутерброд с красной рыбой.
— Это все из Малого театра?
— Да, папа нас подкармливает разными деликатесами. У нас есть баночка икры, хочешь?
— Нет- нет, я с детства не люблю икру. Значит папа у тебя добытчик? Я вчера не спросил, ты одна у папы?
— Я тебе уже говорила: одна. Вчера тебя самогон срезал, и ты даже не приставал. Я отнесла тебя в постель, и ты быстро заснул.
— Как отнесла? На руках?
— Нет, вот так!
— На бедре? – с ухмылкой спросил Виктор.
— На нем.
— Итак, ты сказала, что папа сидел из-за бинокля. Почему?
— Стоп! Я краем уха слышал, что в доме есть телефон. Это правда?
— Да, в большой комнате, где я спала.
— Можно позвонить?
— Конечно.
— Я должен срочно связаться с завтруппой. Она просила звонить, если ожидается замена.
Виктор прошел в большую комнату и набрал номер.
— Галина Николаевна, это Самойлов.
В трубке раздался четкий, с нарочитой актерской дикцией голос завтруппы театра на Таганке Галины Власовой.
-Слушаю!
— Галина Николаевна, доброе утро, это Самойлов.
— Юра, у нас замена. Вместо «Антимиров» пойдет «Пугачев». Понял? Репетиция для интермедий завтра в одиннадцать. Запомнил? Там сокращения. Подожди, ты же у нас не Смирнов, а Виктор Самойлов. Тебе быть на замечаниях завтра в 17 .00. Не опаздывай! Кстати, вывешено распределение спектакля «Живой». Ты там тоже занят.
— А кого я там играю?
— Хорошую роль. Секретаря райкома.
— Текст есть?
— Есть. Три отличные реплики.
— Понял, спасибо! Завтра буду в 17. 00.
Самойлов вернулся на кухню и бойко сообщил:
— Сегодня: гуляй, рванина, от рубля и выше.
— Что – опять самогон?
— Ни в коем случае. Завтра спектакль «Пугачев». Кстати, я вас приглашаю.
— Кого?
— Всех!
— И родителей тоже?
-Да, и родителей тоже. Правда, будут контрамарки.
— Папа в Малый театр приглашает с местами.
— А за что он кстати сидел? Ты сказала за бинокль?
— Он следил за Сталиным.
— Что? И как он это делал?
— Очень просто: в бинокль. Когда я была маленькой, у нас была другая голубятня. Я ее помню только по размерам.
Таня показала рукой к потолку и продолжила.
— Если с этой голубятни смотреть на Кунцевскую дачу и Волынскую больницу в бинокль, то все прекрасно видно.
Вот отец и смотрел, пока его не запеленговали. Приехали и нашли, вместо винтовки с оптическим прицелом, бинокль. Голубятню разломали, а папу арестовали.
— Они решили, что твой отец снайпер?
— Вначале так, но потом изменили статью и папе дали восемь лет. Просидел он пять лет. В 1956 году его выпустили.
— И он снова построил голубятню?
— Да. И не испугался?
— Нет.
Раздается стук в дверь и в коридоре появляются родители Тани – Борис Иванович и Вера Владимировна.
Самойлов растерянно встает и громко рапортует:
— Здравствуйте! Актер театра на Таганке Виктор Самойлов. Оказался здесь в качестве охраны по приглашению вашей дочери.
Борис Иванович быстро подходит к Виктору и обнимает его.
— Спасибо тебе, сынок, что вступился за нее. Молодец! Она нам еще вчера позвонила, когда мой самогон тебя срезал. Вот, Вера Владимировна, приехали знакомиться.
Достает из сетки банку с печенью, сайру, бутылку коньяка и ананас.
— У вас кажется завтрак, значит, мать, мы вовремя.
Премьера «Пугачева»
В небольшом фойе театра собрались актеры, играющие в «Пугачеве». В основном мужчины: полуголые, в холщевых штанах, некоторые босиком. Присутствует и женский состав — исполнительницы хора, актриса, играющая в интермедии роль Екатерины Второй. Рядом с ней Потемкин, представители двора, в целом – пестрая шумная компания, участвующая в премьере. Кто- то из пугачевцев с гантелями и экспандерами – разминаются перед спектаклем, качают бицепсы. Среди исполнителей – ведущие артисты театра, помреж, завтруппой… Быстрым шагом входит Любимов, у него в руках фонарик.
— Галина Николаевна, посмотрите, все ли здесь, нет опоздавших?
— Все здесь, Юрий Петрович. Звонил Эрдман, он приедет на премьеру, просил два места.
— С Эрдманом все в порядке. Я их устроил рядом с собой. Итак, актеры, будьте начеку. Мы не знаем до конца, какие будут реакции, поэтому пережидайте. Если, конечно, вы будете так играть, что вам захотят аплодировать. Второе, следите за цепями, чтобы они не провисали. Тогда это мощно смотрится. Коля, на монологе Хлопуши не рвись к Высоцкому. Наоборот сиди ровно, как на троне. Ты — царь, а это — твои подданные. Эту иллюзию надо играть всерьез. Играть всем. Теперь главное – по стиху. Я вам говорил и повторяю – не гоните, не захлебывайтесь строчками. Это, прежде всего, великая поэзия. Может быть, вершина творчества Сергея Александровича. В зале много гостей. Присутствуют его сестры – порадуйте их творчеством брата. Даже, когда о природе, это я тебе говорю Самойлов, – не гони! Ты играешь верно, но не торопись. Не спокойней, а как у Пушкина – с упованием. Если будете сажать темп, я вам дам сигнал. Вот какие позывные: поднять темп – красный цвет. Я еще буду добавлять рукой тремоло. Вот так.
Любимов показывает рукой – участники спектакля улыбаются, кто-то смеется.
— Ну, с богом! Галина Николаевна, Зоя! Где Хаджи – Оглы? Где помреж? Из толпы высовывается полная, крепкая женщина.
— Здесь я, Юрий Петрович!
— Зоя, как ты научилась прятаться? Такая большая, а словно растворяешься. Милая, давай третий звонок. Я пошел. Там —
столпотворение!
Действительно, у входа огромная толпа желающих попасть в театр. В дверях на контроле давка. Группа студентов пристроилась в проходе у дверей. Изредка кто-то их них проникает по контрамаркам.
За кулисами, в дверном проеме из-за штор Самойлов наблюдает, как устроились на приставных стульях Татьяна, Борис Иванович и Вера Владимировна. В руках у каждого из них по пышному букету цветов. За спиной Самойлова появляется Насонов.
— Ну, покажи твою девушку.
— Вон, приставушки: восьмой девятый, десятый ряд.
— Это вот та, беленькая?
— Да.
— Молодец! Ты что-то вялый сегодня – и почему-то не тренировался.
— Сосредотачиваюсь.
— Понятно, вчера выступил. Не перестарайся, дружок, а то, как Бортник, – пукнешь. Помнишь, минут десять на репетиции успокоиться, не могли?
По радиотрансляции прозвучал голос помрежа:
— Все на сцену! Начинаем! Губенко, Желдин – приготовиться. Гордеев, Костя – начинаем! Пошел свет… Включай Буцко…
На сцене, в предутреннем свете появляется полуголый человек. Это – Пугачев. Откуда-то из глубины сцены доносится его голос:
Ох, как устал и как болит нога,
Ржет дорога в жуткое пространство
Ты ли, ты ли разбойный Чаган,
Приют дикарей и оборванцев…
По настроению Любимова видно, что спектакль идет правильно.
Кумир все чаще показывает фонариком зеленый цвет. Под гром оваций проходит сцена Хлопуши, потом аплодируют Самойлову и в конце, после монолога Пугачева, Губенко.
После завершения спектакля зал начинает скандировать, нарастают крики «браво»! Гости Самойлова – Татьяна и Вера Владимировна — с трудом протискиваются к сцене и бросают ему два букета. Тот с трудом успевает подхватить их. Борис Иванович неожиданно вскакивает на сцену, целует Самойлова и вручает ему третий букет из хризантем.
— Что это за чудик? – шепчет Самойлову по ходу поклона артист Бортник.
— Это из Малого театра. Заслуженный работник сцены.
— Ну, дают академики! Лезут с поцелуями на сцену. Его, наверное, Царев, научил. Тот еще со Сталиным целовался.
Заметив, что у Насонова нет цветов, Самойлов передает другу один из букетов. Вызовы актеров и режиссера не останавливаются.
Любимов с букетами цветов спускается со сцены и, выкрикнув: — «Дорогие друзья, на нашей премьере присутствуют сестры Сергея Александровича Есенина!» — вручает им цветы. Аплодисменты переходят в овации.
Разговор, который трудно забыть
После окончания спектакля все куда-то спешат. Кто-то поднимается в кабинет Любимова, другие располагаются отметить премьеру в гримерках. Самойлов с букетами цветов торопится навстречу с Татьяной и её родителями. Проходя через фойе театра, неожиданно замечает курящего Эрдмана.
— Николай Робертович, что это вы в таком гордом одиночестве?
— Да нет, друг мой, я спустился из кабинета Юрия Петровича покурить. Вот, рюмочка со мной. Показывает наполненный водкой стакан. Хотите, поделюсь?
— Нет-нет, меня ждут за углом в ресторане «Кама».
— Почитатели таланта?
— Я не люблю это слово.
— Почему?
— Стерлось. У нас талантов, что комаров на болоте. Талант здесь один – Любимов, остальные гарнир.
— Если гарнир, зачем же вы тогда, Самойлов, здесь работаете?
— Не могу ответить. Но знаю — в другом театре мне было бы неинтересно.
Эрдман выпил водки, сделал затяжку и, указав на расположенные на стене портреты Станиславского, Мейерхольда, Брехта и Вахтангова, с легким заиканием произнес:
— Я записной театрал, дорогой мой, и знал выдающихся актеров, работавших со многими из этих режиссеров. Все они говорили примерно то же, что и вы. Но шло время и появились Качалов, Москвин, Чехов, Степанова… Этот «гарнир» на века вошел в историю. Я вам предрекаю, что и в этом театре произойдет то же самое. Со временем портрет Любимова будет висеть рядом с ними, а вы, много позже, поймете, что сделали для нашего театра и как надо беречь то, что родилось вместе с «Добрым человеком из Сезуана». Я вас поздравляю с премьерой. Счастливого пути, «фаршированная грудинка» театра на Таганке. На «фаршированную грудинку» оба рассмеялись и, пожав протянутую руку знаменитого драматурга, Самойлов поспешил на встречу.
Царство ресторана «Кама»
Несмотря на поздний час, зал ресторана был наполовину заполнен. Таня вместе с родителями сидела за одним из столов в центре. Самойлов, оглядываясь – нет ли своих из театра, направился к ним. Неожиданно кто-то в спину окликнул его из буфета. Он посмотрел и увидел за стойкой группу актеров театра, празднующих премьеру «на ногах», у знакомой Любки — буфетчицы. Самойлов махнул рукой коллегам и подсел к своей компании. На столе уже красовались графин с водкой, салат – «оливье», минеральная вода и опорожненные рюмки. Перед Таней стоял стакан сока и мороженое.
— Виктор, — крикливым голосом заговорил уже захмелевший Борис Иванович, — мы с женой не выдержали и выпили за прекрасный спектакль. Так ведь, Верочка?
Жена махнула головой и от смущения заулыбалась. Её приятное лицо показалось Самойлову добрым и каким-то застенчивым.
— Спасибо тебе, что пригласил на Есенина, — продолжил Борис Иванович. — Лично я в конце плакал. Дочка, кажется, тоже расплакалась.
Борис Иванович налил в приготовленную для Самойлова рюмку водки и добавил:
— А теперь за тебя!
Он нагнулся над ухом Самойлова и энергично зашептал:
— По нашему общему мнению, ты был лучше всех. Ну, конечно, Высоцкий, сам Пугачев… Забыл, как фамилия этого артиста?
— Губенко, — подсказал Самойлов, — это ведущий артист театра. У нас мужская труппа ничуть не хуже, чем в Малом театре, Борис Иванович, — подцепил Самойлов.
— Но у вас нет Ильинского и Бабочкина.
— Зато у нас есть Золотухин, Смехов, Филатов, Бортник и Хмельницкий с Васильевым. Подождите, и наши окажутся на пьедестале.
— А из женщин? — спросила Вера Владимировна.
— Конечно, Славина и Демидова. Это наши Пашенная и Савина.
— Губенко, конечно, хорош! – продолжил Борис Иванович, — но ты, Витя, сила! Поверь мне. У меня академическая школа. Я Царева вижу каждый день. Как ты с этими цепями работал – просто класс! Мне, казалось, что ты их разорвешь. А фигура — ни в какое сравнение. Атлет! Вот, какой будет тост: за тебя, Виктор, за Спасителя нашей девочки. За ваш театр и Есенина, которого мы – «воркутские доходяги» — перепели там, где Макар телят не гонял. За тебя, Виктор! Согласны, девочки? Прозвучало общее женское «да» и все выпили. И тут же подошла официантка и неожиданно, как в фокусе иллюзиониста, поставила на стол еще один графин с водкой.
Борис Иванович от испуга даже подпрыгнул и решительно, глядя на обеспокоенное лицо жены, стал открещиваться:
— Мы только один пузырек заказывали, а это нам лишнее.
— Водка оплачена и передана вместе с этим.
Официантка протянула Самойлову клочок бумаги, где было написано: «От почитателей и поклонниц».
Виктор посмотрел по сторонам, потом на официантку и с удивлением спросил:
— Кто прислал? Из-за какого стола?
Официантка указала в сторону буфета. Среди толкающихся в буфете посетителей, он увидел прячущуюся спину Насонова.
— Угостите мою «поклонницу» от нашего стола.
Он протянул буфетчице пять рублей и спросил всех присутствующих:
— Мы горячее будем заказывать?
Родители в один голос ответили, что уже заказали себе цыплят-табака, а дочери сок и мороженное
— Скажите, — велеречиво обратился Самойлов к официантке, — а «фаршированную грудинку» у вас подают?
Официантка хмыкнула и с кривой улыбкой ответила:
— Сегодня фаршированную грудинку редко, где подают. Это деликатес, еда аристократов. Будете что-нибудь заказывать из нашего или нет?
— А что есть из нашего, пролетарского?
— Остались только цыплята. Да и то не знаю, согласятся ли в это время их готовить.
— Тогда и мне цыпленка. А если не согласятся, скажите, что я обижусь и с этого дня буду на диете.
— Ладно, уговорю. Но придется ждать. Родителям сейчас, вот-вот подам.
Самойлов посмотрел на всех и весело спросил:
— А разве мы торопимся? Наша официантка абсолютно права: давайте выпьем за родителей!
В это время, в буфете
Официантка завернула в буфет, поманила пальцем Насонова и сунула ему в руки деньги.
— Это тебе, Володька. Твой Самойлов сказал: угостить «поклонницу».
Изрядно подвыпивший Насонов рассмеялся и громогласно скомандовал:
— Наливай!
— Может, хватит, Володя, ты же пьешь без закуски.
– Хо-ро-шо, Люба, — протяжно ответил Насонов, — дай мне бутерброд с килькой и бутылку «Боржоми». А за прикол — вот тебе цветы. Он протянул подаренный Самойловым букет и неожиданно при всех поцеловал Любу. Она зарделась, но не обиделась.
— Ну и кобель ты, Насоныч. Как тебя жена терпит?
— У кого жена, а у кого — телевизор.
Он отпил из стакана глоток водки и негромко пропел довольно красивым голосом: — «У меня жена, ой, ревнивая». Люба зашла за бар и тогда Насонов, приблизившись к ней, шепнул:
— Я тебя подожду, когда все закончится?
Люба густо покраснела, но кивком дала понять, что согласна.
У каждого свои интересы.
Тем временем за столом Самойлова уже успели, разделаться с цыплятами и до конца допили водку.
Вера Владимировна начала командовать сборами. – Боря, надо заканчивать, нам далеко… Пора, а то придется пешком добираться.
Она ненароком стала присматриваться к выражению лица мужа. Заметно, что Борис Иванович перебрал, но держится стойко.
— Танечка, ты с нами или еще посидите? – спрашивает она дочку.
Таня вопросительно смотрит на Виктора и тот оглашает решение:
— Дорогие Вера Владимировна и Борис Иванович, прошу не волноваться. Время еще детское. Я привезу Танюшу туда, куда она захочет. Мы еще не танцевали и не пили кофе с пирожным. Ведь все-таки премьера, да еще какая.
— Ты прав, Витя, — на теплой волне согласился Борис Иванович, — мы с мамой возьмем такси и поедем в Матвеевскую. У нас там еще работы — вагон и маленькая тележка. А вы – повеселитесь! Только чтобы все было в порядке. И без этого, а то я тебе кутах прищемлю. Ты меня понял, Виктор? Как говорил «Уриель Акоста: «Великодушное сердце- лучшее вдохновение разума».
— Конечно, понял. Даже не волнуйтесь, под мою личную ответственность.
Борис Иванович с женой поднялись из-за стола и, придерживая друг друга, пошли на выход.
Вдруг весь зал заволновался. Кто-то из посетителей буфета сообщил, что туда за сигаретами пришел Высоцкий. Публика в ресторане повскакивала, с десяток посетителей ринулись брать автографы, обгоняя друг друга.
Самойлов придвинулся ближе к Татьяне и шепнул ей на ухо:
— Вот, Танечка, что такое слава. Пойдем, я тебя с ним познакомлю. Они прошли в буфет и Самойлов, растолкав плотное кольцо почитателей Высоцкого, представил Татьяну.
— Володя, я тебе до спектакля рассказывал о вчерашней драке, вот она – Татьяна.
— Ах, вот какая она, спасенная? – обрадовался Высоцкий и протянул Татьяне руку. — Береги её Виктор, такие знакомства – не случайность.
Он вам нравится, Таня? – неожиданно задал вопрос Высоцкий.
Таня от смущения покраснела, оглянулась, но ответила твердо:
— Да, очень.
— А я, нравлюсь?
— Вы нравитесь всем, а он — мне!
— Молодец! Поздравляю тебя, Самойлов. Люба, где мои сигареты? Высоцкий взял из рук буфетчицы блок сигарет и, пожав руку Насонову, шепнул:
— Не злись на меня, старик, премьера только начинается! Еще не вечер! Сыграешь! Мне говорили, что ты молодец! Пока! Всем пока! Пустите, меня внизу ждут.
Несколько человек ринулись за Высоцким, протягивая для автографа какие-то клочки бумаги. Одна из поклонниц попросила:
— Володя, распишитесь на моей сумке.
Но Высоцкий резко ответил:
— На галантерее не расписываюсь. Могу расписаться только на груди или ниже.
Встреча на Бегах
После возвращения за свой стол, Самойлов заказал кофе и пирожные. Оставшись вдвоем, они, наконец, смогли поговорить.
— Надо же, кому скажу, не поверят. С Высоцким познакомилась. С Самойловым кофе пила. Еще раз спасибо тебе за приглашение, Виктор. Мама с папой просто счастливы.
— У тебя очень хорошие родители. А мама какая-то особенная: тихая, скромная и очень красивая. Где она работает?
— Мама? Она не любит об этом говорить, но работает она… в ЦК.
— В ЦК? Вот это да! Здорово, наконец-то и у меня есть свои люди в ЦК.
— Да, у тебя теперь есть люди в ЦК, но это ЦК комсомола.
— Ну и что, комсомол – кузница кадров. Молодым у нас дорога. За нас, Татьяна, за молодых и счастливых.
Он допил водку и остатки кофе.
— Но у мамы и в большом ЦК свои люди, — продолжила интригу Татьяна, — к маме хорошо относится Александр Николаевич.
Самойлов напрягся и, оглянувшись по сторонам, спросил: — А кто такой Александр Николаевич? Татьяна придвинулась ближе и интригующе шепнула:
— Это Шелепин.
— Понял. Знаю. Какой вечер получился. Премьера, цветы, в театре на Таганке когда-то Ленин выступал, а здесь в «Каме», мне рассказывали, что вот в том углу — нередко ужинали Ягода и Берия… Потом один другого посадил. В завершение всего: маму Тани — сам Шелепин
знает… Виктор глубоко вздохнул и на выдохе тихо рассмеялся.
— Этот ресторан, как река времени. Но «фаршированную грудинку» здесь не подают.
Зазвучала музыка. По заказу одной шумной компании запела певица. Несколько пар стали танцевать что-то вроде твиста. Виктор подхватил Таню, и они присоединились к танцующим. Кто-то из посетителей заметил, как они складно танцуют и начали им хлопать. Вернувшись к столу и, переведя дух, Татьяна решительно заявила:
— Все! Хватит! Пора заканчивать, Витя. Поздно уже. Завтра на работу.
— Отлично. Пора, так пора.
Он окликнул официантку, расплатился и молодые люди вышли на улицу.
Через ночную Москву, они на такси без труда доехали до Беговой.
Выйдя из машины, Самойлов спросил Татьяну:
— Ты на каком этаже живешь?
— На седьмом.
— Шеф, — обратился он к водителю, — я мигом – проведу до этажа и спущусь.
— Только не растягивай поцелуй до утра, — послышался ответ из кабины.
— Шеф, какие поцелуи. Мы еще дети.
— Ладно, в темпе, жеребец.
Выйдя из лифта, они натолкнулись на шумную компанию, выскочившую на площадку этажа. Из открытой двери соседей раздавалась музыка, громкие голоса, веселый смех. Навстречу Татьяне бросилась невысокая, черноглазая пышечка и радостно заверещала:
— Танюха, ты куда пропала? Заходи. У нас все свои. Здесь Кирилл, Генка и Зойка с подругами…
— Наташа, — с пьяной бравадой представилась соседка-пышечка, — между прочим, близкая подруга вашей спутницы.
— А вы кто? – уставилась она на Самойлова. — Откуда ты его выкопала, Танька?
— Наташа, это Виктор, мой новый друг. Мой Спаситель.
— Это кличка такая? – спросила пышечка.
— Да, теперь это моя кличка, — с гордостью ответил Самойлов.
— Вот что, проходите к нам в гости, у нас все есть. Даже пиво. Татьяна вопросительно обернулась к Самойлову и робко спросила:
— Хочешь зайти? Тут все из нашего квартала. Не бойся, драки не будет.
— Хорошо, но надо отпустить машину. Идите в дом, я мигом.
Самойлов сошел вниз и отпустил такси.
— Ну что я тебе говорил — пробурчал вслед таксист, — самое время потереться в подъезде. Самойлов брезгливо усмехнулся и, видя, что лифт занят, пошел на седьмой этаж пешком.
Когда он вошел в оставленную открытой дверь соседки, его встретили шумным многоголосьем. По тому, что раздались возгласы: —
« Спаситель!», и Виктор понял, что Таня уже успела рассказать, как они познакомились. В комнате, где разместилась большая часть гостей, стоял дым коромыслом — на длинном, дубовом столе торчали пустые бутылки из-под водки и вина, рядом, странными пузырями соседствовали две трехлитровые банки с пивом. Однако никого этот ералаш не смущал: кто-то разливал остатки спиртного, у окна в форточку курили, при этом никто друг друга не слушал, все были навеселе и в хорошем подпитии. В комнате было человек десять. Компания состояла на половину из мальчишек и девчонок в возрасте 18- 20 лет. Виктору налили «штрафной» стакан из спрятанной под столом бутылки вина.
К нему подошел крепкий, среднего роста пацан и, по-хозяйски протянув руку, заявил:
— Спасибо за нашу Таньку. Молодец! А на руку со мной можешь? Я до тебя всех тут уконтропупил.
В первый момент Виктор даже не понял, что имеется в виду. Но когда Кирилл показал рукой рычаг с наклоном, Самойлов понял, о чем идет речь.
— Нет, не могу. Вас вон сколько, а я один. При этом я наелся, могу, не эстетически, простите, от напряжения пукнуть.
Никто не ожидал такого ответа, поэтому в первый момент возникла довольно брезгливая пауза, а потом грохнул общий, злорадный смех.
— Ни хрена себе, шутки у молодого человека, — вдруг раздался голос одного из парней, который курил у форточки.
— Как его зовут, говорите?
Молодой человек стал выдвигаться к центру, освобождая себе дорогу обеими руками.
— Спаситель? Это что, кликуха? А на самом деле, как? Вот, я Геннадий, можно назвать: Генка — крокодил… Танькин пацан. А ты откуда нарисовался?
— На самом деле меня зовут Виктор, — неохотно ответил Самойлов. Нарисовался я с Таганки. Пригласила нас сюда с моей девушкой Таней вот эта красавица. Правильно, Наташа?
— Правильно! Генка, не лезь и не груби, — строго вмешалась хозяйка. — Виктор наш гость.
Видя, что назревает конфликт, наконец, подала голос и Татьяна.
— Слушай, Крокодил, не лезь на рожон. У Виктора сегодня праздник. Премьера. Он сыграл «Пугачева» и познакомил меня с Владимиром Высоцким. Он очень хороший артист и к тому же смелый и сильный человек. Я ему очень благодарна. И если ты будешь выступать, мы уйдем.
Такое заступничество Татьяны, еще больше раззадорило Геннадия.
— Ничего себе сильный, сдрейфил ведь с Кирюхой потягаться твой артист из погорелого театра на Таганке.
Такой оборот разговора задел Виктора. Он оглядел всех присутствующих и словно отрезвел. «Чужая территория, — мелькало у него в голове, — у многих помимо любопытства — явное желание покуражится».
— Все ясно, я им не понравился, — с чувством обиды заключил Виктор. — Ну что ж, придется улепетывать. Вторую драку я не выдержу.
Он повернулся к Татьяне и громко спросил. Может быть, и впрямь уйдем, Таня?
— Ты уйдешь, а Таня останется, — грубо выкрикнул Геннадий.
— Мы трусам своих подруг не отдаем.
Последний выпад словно пригвоздил Самойлова. Он скинул куртку, решительно сел за стол и, поставив руку локтем перед Геннадием, холодным голосом предложил:
— Давайте, но только по одному. Первого он положил Геннадия, потом подсел Кирилл. Его Самойлов положил с обеих рук. Затем возникли еще двое, которых он тоже свалил. Когда все проиграли, Татьяна от счастья запрыгала. Хозяйка в знак примирения налила Виктору еще один стакан вина и тихо шепнула:- Давайте отойдем в сторону. Они встали в небольшом коридорчике, собираясь покурить.
— Надо уходить, — сквозь зубы, выпуская дым, проронила Наташа. — Они вам это не простят. Я слышала разговор: «Отметелим его попозже». Пойдите в туалет и сразу в квартиру к Тане. Я ее открыла. Вот вам ключи, мне Таня их дала. Она незаметно передала Самойлову ключи и с каким-то заговорщески-деловым выражением лица вернулась к общему столу, погасила сигарету и подключилась к общему трепу.
Самойлов развязано перекинулся общими фразами на взиравших на него с восторгом девиц и, не заходя в туалет, быстро вышел на лестницу. Все его существо гудело от обиды, но ум говорил – не лезь. «Лучше уйти на цыпочках, чем тебя унесут на носилках» — вспомнил он чье-то выражение. Только он успел войти в квартиру, как в дверях показалась Татьяна, которую сзади изо всех сил не пускал Геннадий. Самойлов встал в дверях и рукой оттолкнул Геннадия к лифту. Но тот и не собирался отступать. Ругаясь отчаянным матом, он с кулаками бросился на Самойлова. Виктор автоматически из неудобного положения нанес удар, у незадачливого ухажера подкосились ноги, и он по стенке стал медленно сползать на пол. Татьяна мгновенно заперла дверь, обняла Виктора, и они оба припали к закрытой двери. Не прошло и минуты, как раздались звонки, хулиганский мат и требование открыть дверь.
— Генка! – крикнула разъяренная Татьяна, — если не прекратишь звонить, я вызову милицию. Я не шучу. Ты знаешь, телефон у меня есть. Понял?
Из-за двери снова раздался мат, и послышались угрозы:
— Танька, твой хахаль отсюда не выйдет. Ему п……!
— Генка, уходи! Я тебе все сказала. Я не шучу!
Она дрожащей рукой взяла Самойлова за руку и повела вглубь довольно большой трехкомнатной квартиры.
— Ну, все! Теперь этот Крокодил будет тебя поджидать до утра. И не один! Придется сидеть здесь. Или вызвать милицию? – словно советуясь, спросила она
— Не надо! Начнут разбираться, оформлять задержание…
— Какой же ты сильный Виктор! — с каким-то детским восхищением воскликнула она. Он обнял её и Татьяна, не сопротивляясь, дала себя поцеловать. В этот момент где- то внутри квартиры зазвонил телефон. Она быстро прошла в комнату и взяла трубку.
— Да, папа, я дома. Не волнуйся, все в порядке. Виктор проводил меня и уехал на такси. Спасибо! И вам спокойной ночи. Она положила трубку и развернулась к Самойлову. Теперь их уже ничего не останавливало. Поцелуй у них был долгий, но не длинный. Они спешили, не зная друг друга, как следует. Самойлов остался у Татьяны до утра.
«Жизнь мне ставит точку, а я ей запятую, запятую…»
После того, как отправили домой на такси Эрдмана с женой, с Кумиром остались праздновать премьеру «Пугачева» только самые стойкие: художник Давид Боровский, парторг Борис Глаголин и писатель Борис Можаев.
Уже несколько раз пили «на посошок» и снова находили повод налить – всем не хотелось расставаться.
— Слушайте друзья, а что если мы покажем нашему Кузькину макет к спектаклю «Живой»? Давид, ты готов?
— Это что, тащить сюда в кабинет эту махину?
— Зачем! Возьмем стаканы, вот эту последнюю водку и пойдем к тебе. Пусть Можаев посмотрит, как мы его сделали. Боря, хочешь увидеть макет?
Можаев хотел возразить, что, мол, он нетрезв, да и плохо в этом разбирается, но сообразил, что театралы могут обидеться и сказал:
— Хорошо, но возьмите обязательно водки. Если оформление будет хуже васильевского «Пугачева» — напьюсь окончательно.
— Вот этого не надо Борис Андреевич. А вообще, не хватит ли нам сегодня? Лучше на свежую голову смотреть.
— Ну вот, у нашего парторга началась депрессия, — ополчился Любимов. – Твой потерянный авторитет, Борис Алексеевич, сном не восстановишь. Надо думать, как можаевский Кузькин: «Жизнь мне ставит точку, а я ей – запятую, запятую… »
— Правильно, Юра. Как сказал Омар Хайям: «О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто хуже нас, им просто не до нас». Пошли смотреть макет.
Они прошли по коридору и вошли в кабинет главного художника театра. Боровский пришел раньше. Макет стоял на столе и был хорошо освещен. Все березы и домики на верхушках, как скворечники были подсвечены. Когда все наудивлялись, Боровский поставил последнюю березу, к которой на верхушке прикрепил журнал «Новый мир».
— Вот, окончательный вариант, Борис Андреевич.
— Братцы, Давид, да ведь это шедевр. Это как-то и условно и, безусловно, одновременно. Боровский зажег в домиках на верхушке берез свет и Можаев зааплодировал.
— Чудо! Сказочно, как в колхозе «Трудовая нива». Единственно только, окна должны быть не на одну, а на две шибки с фрамугой, хорошо бы аиста, и почему-то скворечников не видно.
Боровский пристроил у одной крыши скворечник, а на другой, набросав кольцом солому, повернулся к Можаеву и сказал:
– Вот вам гнездо аиста. Хотите, положу туда яйца?
Можаев захохотал и, сграбастав Боровского, воскликнул:
— Чудесно!
— Хорошо бы актеров хороших в эту декорацию, — вставил Глаголин, — Гузенкова и Мотякова так и не понятно, кто будет играть. Губенко не может – учиться во ВГИК уходит, будет доигрывать. Надо, срочно вводы делать. А Высоцкий — частушки писать готов, а Мотякова играть – не очень.
— Юра, без Высоцкого – нехорошо. Он такой калибр, против которого никто не устоит.
— Можаич, не бойся, — успокоил Кумир. Володя и сыграет, и частушки вот такие напишет. И актеры хорошие есть: Смирнов, Колокольников, молодой Антипов… Нам надо готовиться к главному: как это чудо защищать!
— Меня, Юра, не пробовали разве ж дустом, — начал Можаев, — поэтому отбрехиваться будем по всем правилам Совдепии. Главная цель – не стать мишенью для расстрела. И стоять надо на одном: Кузькин мог быть и крестьянином, и ученым, и инженером, и офицером. Это русский человек сохранивший достоинство, и честь, оставшийся самим собою, способный, несмотря ни на что, делать свое дело. Это тот тип человека, который может встретиться не только в деревенской, но в городской жизни. Истоки Кузькина в Иванушке-дурачке, в Теркине… Именно об этом мы говорили с Твардовским, когда готовилась повесть для публикации. Мы даже в этот день бутылку на двоих раздавили. Парторг – наливай! Глаголин разлил водку, все выпили и вдруг Любимов, подняв высоко стакан, с каким-то отчаянным вызовом затопал ногами и запел:
Не хотел ты жить в Рязани,
Не хотел плясать кадриль.
Сделай, Федя, обрезанье.
И поедем в Израиль.
Во время этого вокального порыва, кто- то громко постучал в дверь, и без приглашения в кабинет ворвалась жена Кумира Люся.
— Вот вы где, полуночники! Юра, ну ты и горлопан, половина текста мимо нот. Вот, как это надо делать! Она бросила сумку на стол и с приплясом, очень точно спела ту же частушку.
— С премьерой всех! Поздравления от Гриценко, Ульянова и всех вахтанговцев. Она по очереди всех поцеловала и по-военному скомандовала:- Всем в машину и к нам – отметим, я последнего «Идиота» сыграла! Мужчины от неожиданности вылупили глаза и растеряно уставились друг на друга.
– Поехали, поехали! «Волга» внизу. Я хоть вас по-человечески покормлю.
На огромной скорости по ночной Москве вся компания, напевая «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река», поехала на квартиру Кумира.
Расплата
Утром Самойлов почувствовал, что кто-то с него медленно стягивает одеяло. Не открывая глаз, он наощупь потрогал лежащую рядом Татьяну. Она спала в ночной рубашке и тоже без одеяла. Он открыл глаза. Над ним стоял во весь рост Борис Иванович, с перекошенным лицом и ремнем в руках. С перепуга Самойлов резко прижал колени к голове и сместился к спинке кровати. Тотчас на простынях оба мужчины заметили кровь.
— Как это понимать, Виктор? – каким-то плаксивым голосом спросил отец Татьяны и обеими руками проверил на прочность ремень.
(Откуда приходит решение ответственных поступков у молодых людей, знает только провидение.) Виктор приложил палец к губам, дав понять, что не надо будить Татьяну, голым спрыгнул с кровати и, надев брошенное на тумбочке нижнее белье, жестом предложил отцу последовать на кухню. Здесь уже была мать — Вера Владимировна, одетая в довольно простую одежду, словно Золушка после бала. Вера Владимировна, смущенная видом Самойлова, отвернулась к окну, пока тот не спрятал ноги под кухонный стол.
— Виктор, — заговорила она расстроенным голосом — мне надо было на работу и мы заехали, чтобы переодеться. И я смотрю — горе-то, какое, вы в постели на второй день знакомства.
Борис Иванович прошел на другую сторону стола и, опершись головой на руки, затих, предоставив говорить жене.
— Что нам теперь делать, Виктор? Ведь она у нас одна, мы, как умели
берегли её, и вот, пришли вы и сразу — вот так!
Она показала на комнату, где осталась Татьяна и вдруг у неё брызнули слезы. Она даже их не смахивала, только старалась отвернуться к окну, которое выходило на беговой трек стадиона. Виктор понял, что больше молчать нельзя, сделал успокоительный жест, сходил в комнату и уже одетым, босиком вернулся на кухню. Видя, что гость с босыми ногами, Вера Владимировна быстро прошла в коридор, принесла тапочки и положила их перед Виктором. Это поступок пронзил Самойлова. Он подошел к этой потерянной женщине, обнял её и вдруг сказал то, что для всех стало откровением.
— Успокойтесь, видите, как она спит? Мои дорогие, вот она встанет, и спросите её. Я же не мог остаться, если бы она этого не захотела. Вчера, она сказала мне, что счастлива. Может наше счастье такое – два дня и … под венец. Сегодня ведь необязательно построить дом и посадить дерево, а потом жениться.
— Куда ей замуж, она еще школу не закончила, — с болью проронила Вера Владимировна.
— Как не кончила? Она сказала, что работает, — удивился Самойлов.
— Да, она работает и заканчивает десятый класс вечерней школы, — нехотя подтвердил Борис Иванович.
— Как так, мать работает в ЦК, а дочка учится в вечерней школе и в 18 лет уже работает?
— Она вам сказала, что я в ЦК работаю?
— Да, в ЦК комсомола. Что, она соврала, придумала?.. Сказала, что вы знакомы с Шелепиным.
— Нет, она сказала правду. Я действительно знаю Александра Николаевича. Но ближе всех я знаю председателя КГБ Семичастного. Я часто бываю на его даче.
Виктор быстро посмотрел на Бориса Ивановича, не преувеличивает ли жена свои связи.
— Мы с Борисом Ивановичем давно разведены. Иначе меня бы уволили. Бывший муж утвердительно молчал.
— Я в ЦК работаю… уборщицей… Я много лет убираю кабинеты первых лиц. Вот почему у нас такая квартира. В прошлом году из Матвеевки переехали сюда. Как только переехали, Татьяна обзавелась тут подружками и к одной из них устроилась на работу лаборанткой. Слава богу, школу не бросила.
— Все нормально, мать, вечерняя школа – не преступление. А твое поведение, Виктор, не Спасителя, а … Это другая пьеса…
— Почему, папа? — раздался из коридора голос Татьяны.
— У нас своя пьеса… Я, мама, уже его. Она быстро подсела на один стул рядом с Виктором и тихо спросила:
— Ты, правда, хочешь под венец Виктор?
Виктор улыбнулся, обнял Татьяну и, поцеловав, весело сказал:
— Если с женщиной хорошо — женись, иначе это сделает другой.
Фурцева на Таганке
В спектакле «Живой» во время сцены в райкоме с потолка опускались под бравурную патетическую музыку стулья. Неожиданно обнаружилось, что среди райкомовских работников нет инструктора, которого играл Самойлов.
Через микрофон Любимов стал требовать Самойлова.
— Где он? У него что, опять концерт?
Кумиру по радио ответили, что Самойлов пошел переодеваться в другой костюм. « Он думал, что до него не дойдут. Вы же хотели сегодня смотреть показ Керенских».
— А что, Зоя, репетиция закончилась? – почему-то весело спросил Любимов.
— Да, Юрий Петрович. Практически мы прошли все замечания, сделанные на показе управлению.
-Не может быть! Так незаметно?
-Да, так, незаметно, — пошутила Ходжи-Оглы.
— Глаголин?! – по трансляции крикнул Любимов — где будет показ. В дверь зала заглянул Глаголин:
— Давайте, если хотите в фойе.
— Нет, поднимите стулья и пусть показывают на сцене. Снова под патетическую музыку подняли стулья и в зал стали просачиваться болельщики. Керенских оказалось семеро. Самойлова среди них не было. — Пройдите все кто будет показываться на сцену. Борис Алексеевич, они без костюмов будут играть?
— Костюм Высоцкого костюмеры не дают — отрапортовал Глаголин, — а костюм Губенко забрал Самойлов.
— Хорошо. Что вы подготовили?
— Все готовили первый выход Керенского и монолог на плечах пантомимистов.
— Начинайте! Кто первый?
Первым оказался артист Фоменко.
— Юрий Петрович, пантомимистов нет, поэтому я не знаю, как быть! — пожаловался Фоменко.
— Давайте прямо так… Я слушаю…. – скомандовал режиссер.
И начался показ: соискатели на главную роль в спектакль «10 дней, которые потрясли мир» по очереди стали на разные лады показывать речь премьер – министра России А.Ф.Керенского. Наконец, дошла очередь до Самойлова.
И тут на удивление всем, в театре случайно, «как рояль в кустах» оказался пантомимист. Он вышел вместе с Виктором, одним махом вскинул его себе плечи, и Самойлов четко по выстроенному рисунку показал всю сцену, не сделав ни одной ошибки. В зале раздались аплодисменты.
— Ну что ж, неплохо Самойлов. Молодец! – отозвался с места Кумир. — Ты даже клакёров заготовил. Кто это тебе аплодирует, Насонов? Он повернулся назад и увидел в темноте Насонова. Ну да, дружок на месте.
Хорошо! Ну а выход со шпагатом, что, слабо сделать?
— А какую растяжку вы хотите: продольную, поперечную, вертикальную или провесную?
Любимов положил голову на левое плечо – знак, что его достают, сделал паузу и подумал: «Хороший ты артист Самойлов, но нахал первоклассный!»
— Ту, которую делает в спектакле Коля.
— Не понял, какой Коля? – растерялся Самойлов.
— Николай Николаевич Губенко.
— А, понял, тогда продольную.
Самойлов, ушел за кулисы, и через секунду, выбежав на большой скорости, сделал продольный шпагат и, оттолкнувшись от пола руками, вернулся в стойку.
— Галина Николаевна, — по радиосвязи сказал Любимов, — поставьте на ближайший спектакль Самойлова. Посмотрим, как он сыграет. Всем спасибо.
В это момент неожиданно в зале появился директор театра и стал что-то шептать Кумиру на ухо.
— Зоя! — нервно крикнул в микрофон режиссер, — немедленно вызовите весь состав «Живого» на сцену.
Через несколько минут из всех театральных щелей на сцену просочились актеры и уставились на Любимова.
— Господа артисты, только что звонили от Министра Культуры Фурцевой. Завтра утром в одиннадцать Екатерина Алексеевна приедет смотреть спектакль «Живой». Всем цехам приготовиться к сдаче.
Этот день запомнился навсегда. Шел март, но холод в театре был собачий: что-то случилось с отоплением. В гримерной Самойлова все уже были одеты в театральные костюмы, когда в окне первого этажа, выходившего на Садовое кольцо, участники спектакля увидели черную «Чайку». Из неё показалась Фурцева.
Выпорхнула она из кабины легко, словно балерина. Через несколько секунд красавица- министерша уже была в предбаннике служебного входа. Здесь был эпицентр театра, на крохотном столике лежала ведомость, в которой актеры расписывались о явке на спектакли. Самойлов быстро вышел в коридорчик, что бы взглянуть поближе на эту знаменитую женщину. В памяти мгновенно всплыла легенда, как Фурцева спасла Хрущева, собрав пленум в 1956 году.
На ней была то ли норковая шуба, то ли каракулевое манто. (Мнение по поводу этой исторической шубы у «таганцев» до сих пор вызывают споры, поэтому автор оставляет оба варианта).
Лицо Екатерины Алексеевны он знал по фотографиям и телевидению.
Но была и личная встреча. Однажды он видел Фурцеву на спектакле во МХАТе.
В тот вечер на спектакль во МХАТе «На всякого мудреца довольно простоты» Фурцева опоздала. У Самойлова место было в седьмом ряду. (Приглашение было от одного из главных исполнителей спектакля О. Стриженова). А перед ним в шестом ряду сидел муж Фурцевой — замминистра иностранных дел Фирюбин. Рядом зияло свободное место. Спектакль уже шел, как вдруг появилась Екатерина Алексеевна. По походке и по развязано-вежливому выражению лица, Виктор понял, что «мадам» уже под крепкой «мухой» Но выглядело это всё со стороны вполне пристойно.
В этот вечер она показалась Самойлову привлекательной и абсолютно независимой. В конце на поклоне даже кокетничала со Стриженовым, который играл Глумова.
Тогда у нее, выражаясь современным языком, по отношению ко всему, что происходило во МХАТе, был полный «пофигизм», здесь же, на Таганке она чувствовала иначе, неудобно. Видно было, что она явно не в своей тарелке. При входе её встретил Любимов. Улыбка Вахтанговского героя – любовника тотчас засияла на его физиономии.
— Куда мне идти? – спросила она, оглядываясь и нелюбезно кивая на приветствия тех, кто пришел посмотреть на неё.
Любимов сделал широкий жест, приглашая Фурцеву наверх, в свой кабинет. На нем был красивый серого цвета пуловере, его роскошная седая шевелюра выглядела покладистой. Бросалось в глаза, что он не столько волнуется, сколько рассчитывает на взаимопонимание. На секунду они встретились глазами, словно Настасья Филипповна с князем Мышкиным, Фурцева хотела сбросить ему в руки свою каракулевую шубку, но Кумир предупредил:
— Екатерина Алексеевна, простите, в театре не работает отопление, поэтому холодно. Оставайтесь так. Да и вообще будет прохладно, — странно пошутил Кумир.
Она сверкнула глазами на этот полунамек-иронию и без пауз ответила:
— Не замерзну, не за этим приехала! – и бегом пошла наверх. Самойлов в короткое мгновение увидел её красивые ноги, легкую походку и манеру держаться, скорее капризную и кокетливую, нежели властную.
— Зачем шеф так шутит, так ведь и накаркать можно бог знает что! — подумал Самойлов и направился за кулисы.
И впрямь, все происходящее теперь можно было смотреть только из-за кулис. Там царило какое-то нервное спокойствие. Лукьянова с Жуковой умудрились из-за спины помрежа взглянуть на приехавшую комиссию и разом помрачнели: играть для пустого зала — удовольствие сомнительное. Зоя их тотчас отогнала:
— Готовьтесь, готовьтесь, нечего здесь торчать! – трясущимся голосом командовала Ходжи-Оглы.
Перед первым выходом, большинство актеров перешептывались в крошечном фойе. Курильщики незаметно покуривали около мусорника. Золотухин и Славина находились на другой стороне сцены – их выход был оттуда. Здесь же были и Костя Желдин, Юра Смирнов, Саша Пороховщиков и Самойлов.
Те, кто работать начинал позже, судачили друг с другом по телефонам, которые накануне поставили в гримерках.
Самойлов поглядывал в зал сквозь щель в дверном проеме, закрытом тяжелыми серыми шторами. Невольно вспоминалось: «Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку».
Несколько человек, по всей видимости, из комиссии, уже находились в зале. Сидели разбросано – не общались. Среди них был Чаусов – позже ставший начальником Управления театров. О нем речь пойдет дальше.
Внезапно раскрылась дверь из большого фойе и в зрительный зал быстро вошла Фурцева. Она прошла в пятый ряд и села отдельно. Шубка была наброшена на её плечи, придавая всему её облику какой-то царский вид. Следом появились Любимов, Можаев, Глаголин. Они сели рядом, у режиссерского столика. Когда режиссер дал команду начинать, почти «по-пластунски» незаметно просочились на задние ряды еще несколько человек; расселись все порознь, словно пришли в чужой дом непрошеными гостями. Как же это все было по-советски: казенно, безрадостно и бессердечно! И это на одном из лучших спектаклей театра на Таганке!
В зале по-прежнему было холодно, но все члены комиссии были в костюмах. Среди всего этого «партикуляра» незабываемо выглядел автор. Можаев сидел прямо, словно пригвожденный к воздуху, голова была похожа на скульптуру римского полководца. При этом он улыбался и всем видом давал понять, что счастлив, и уверен в успехе. Постепенно стал гаснуть свет, и в глубине зала промелькнула фигура Вознесенского. Актеров в зал не пустили — запретила администрация театра. До этого по приглашению Любимова на одной из репетиций побывал Жан Вилар – знаменитый режиссер Национального театра в Париже. Его сопровождал из газеты «Юманите» корреспондент Макс Леон. Это стало известно «наверху», директор получил выговор, и это стало поводом для ссоры обоих руководителей театра.
Главное ощущение перед началом спектакля — это какой-то торжественный страх. До этого министры в этом театре не бывали. Поэтому волнение за кулисами было зашкаливающим.
Единственно, кто чувствовал себя уверенно и, пожалуй, даже азартно, это Любимов. Ему после «Доброго человека» власть сделала прививку – «стоять насмерть», а воля и талант взрастили внутри «божка», который твердо знал, когда спектакль готов, когда и как его показывать и что его театр, в конце концов, победит любые наезды и предрассудки.
Его уверенность придавала коллективу огромную силу и мужество. Все понимали, что сегодня Таганка – главный театр в стране, здесь, по – галилеевски, решался один-единственный вопрос: будет театральная история «вертеться» или по-прежнему останется «плоской».
Первый акт играли при полном молчании. Но вот кончилось первое действие, и вдруг во всех гримерках по радиосвязи раздалась ругань Фурцевой. Сиятельная дама как сорвалась с колков, и начался ор:
— Где вы видели такую жизнь? Это что же такое? Где у них Советская власть? Что вы показываете? Вот это посмотришь и, конечно, скажешь – 50 лет впустую!
Любимов быстро встал из-за режиссерского стола, по проходу прошел к Фурцевой и стал успокаивать её, словно больную.
— Екатерина Алексеевна, потерпите. Спектакль ведь не закончен. Второй акт все выправляет, ставит на место, — вежливо, но крайне взволнованно успокаивал он разгневанную даму.
— Это впечатление нельзя изменить никаким вторым актом. Не понимаю, где автор увидел такую жизнь? Давайте второй акт!
— А перерыв? – опять вежливо спросил Любимов.
— Не надо никаких перерывов! Мы уже готовы!
«Мы уже готовы» прозвучало двусмысленно: то ли готовы, в смысле «обалдели», то ли готовы спектакль растоптать.
В короткой паузе между актами, актеры не успели на весь услышанный ор даже отреагировать. Все чувствовали, что получили по мордам, и поэтому пошли на второй акт с каким-то почти озверелым настроем. Перед тем как стал набираться свет, Зина Славина успела показать рукой круговое движение – понятно было, что надо держать темп и не падать духом. В такой атмосфере играли второй акт.
Сцена в райкоме проходила в большем общении с залом. Поэтому Самойлов ненароком следил за лицом Фурцевой. Лицо было брезгливо-недовольное, словно ей показывали прокаженных из индийского штата Кашмир.
Удивительно было другое: несмотря на «военный режим» просмотра, актеры играли превосходно, отчаянно и залихватски. Сами радовались, тому, сколько появилось импровизации. Это тотчас сказалось: в зале кое-кто стал реагировать, конечно «под сурдинку», посмеиваясь в кулачек, оборачиваясь, и как бы стесняясь друг друга.
Наконец спектакль закончился. Фурцева сбросила на кресло шубу и обернулась.
— Где партийный секретарь? Где дирекция? Здесь, в этом театре есть партийная организация?
К ней стал подходить белый как мел Глаголин, но она его грубо отшила – мол, все с вами ясно, нет парторга, безответственная организация… На беду в этот момент высунулся актер Джабраилов, который играл Ангела с крылышками. Одет он был в трико, обтягивающее мужскую силу, и скорее походил на люцифера, чем на ангела. Фурцева по женской логике прореагировала на появившееся «чудо» и громко спросила:
— Вот вы?!
Джабраилов указал на себя и тоже спросил.
— Вы ко мне?
— Да-да, к вам! Вам не стыдно играть вот так, в этом неприличии?
— Не стыдно, — на удивление спокойно ответил Рамзес.
Она поискала глазами Любимова и злорадно выкрикнула:
— Да, довели вас здесь! Вас надо всех разогнать!
В этот момент из «окопов» появился Вознесенский и самовольно, без разрешения начал говорить о том, что Любимов, как художник имеет право увидеть наше недавнее прошлое в сатирическом ключе …
— Сядьте, Вознесенский! Ваша позиция давно известна. И вообще, как вы сюда попали? Кто пустил этого защитника? Все ясно! Ну и компания же у вас подобралась. Приведи сюда иностранцев, не надо по стране ездить. В центре Москвы узнаешь больше, чем по любому «Голосу». А зачем им ездить – они сюда придут и напишут! Второй акт – говорите! Второй акт ничего не изменил. Как был непроглядный мрак, так и остался. И сердце у вас не защемило такую действительность нам показывать. Так-то вам нужна Советская власть? Пинать ее вам хочется! Смотрите, допинаетесь!
В этот момент в центре зала поднялся красивый, лощеный молодой человек из театрального отдела.
— Екатерина Алексеевна, можно сказать откровенно? От всего сердца?
— Скажите, скажите от молодежи, а то я тут одна все решаю.
— Правильно решаете, Екатерина Алексеевна. Это спектакль целит в самое сердце Советской власти, в нашу смычку с крестьянством. Если у нас на селе такое крепостное право, то, что же за страну мы построили? Откуда у нас тогда космос, как же это мы победили в войне, если в спектакле такой райком… Это в Америке Чарли Чаплин с маленьким человечком, а у нас Теркин, женщина-колхозница, которая выиграла войну…
Выступление Чаусова взбесило Можаева. Он не удержался, вскочил и его понесло. Он без слов прошел к Чаусову и скомандовал: «Сядьте!»
Тот с перепугу медленно сел и сник.
Можаев погрозил ему пальцем и добавил тихо, но твердо:
— Вы еще молодой человек, а ведете себя, как карьерист! Так карьеру не делают! Он повернулся к Фурцевой и продолжил:
— Как вы воспитываете молодые кадры, Екатерина Алексеевна? Это ведь первостатейный подхалим.
За кулисами актеры на этот пассаж даже захлопали.
— Как будто для этого молодого человека не было мартовского Пленума ЦК КПСС, — продолжил Можаев, — осудившего волюнтаристские методы руководства. А они оказываются живы, только в другом обличии: в демагогическом бряцании действительно великими заслугами, не замечая повседневности. «Для каждого из нас, — говорит Брежнев,- должно быть обязанностью быть гражданином, участвовать в обсуждении злободневных проблем или так называемых временных вопросов». Мимо них, как говорил Щедрин, не пройдешь с «олимпийским равнодушием».
Можаев указал на сцену и выкрикнул:
— В этом театре нет равнодушия, и за это его бьют, не понимая, что рубят сук, на котором сами сидят. И затем продолжил:
— У нас много больных жизненных вопросов, которые помогает решать и театр. Да, это увеличительное стекло. Но не площадка для демагогии, молодой человек. Театр тоже, вместе с партий решает вопросы нашей повседневности, пытается донести до каждого из нас, что никто кроме нас самих, не сдвинет их с места. Что это за вопросы? Я вам отвечу принятыми решениями нашей партии, которые здесь почему-то забыли: это развитие хозяйственной самостоятельности колхозов… У Кузькина, как мне кажется, есть предтечи, но это не маленький человек Чарли Чаплина, а Иванушка-дурачок, Швейк Гашека, Теркин Твардовского…
— Хорошо, хорошо, товарищ Можаев, — вмешалась наконец выбитая из седла министр культуры. – Мы помним о роли Мартовского пленума, о задачах по развитию хозяйственной самостоятельности, но мы знаем и о роли партии в этих вопросах.
Можаев хотел что- то возразить, но Фурцева подняла руку и громко выкрикнула:
— Стоп! Достаточно! Все понятно, целую лекцию закатили. Хватит! Давайте, как говорит герой вашего спектакля: «не будем ломать комедию». Она взяла себя в руки, посмотрела презрительно на свою команду и продолжала:
— Итак, подведем итоги: второй акт — говорите? Главный режиссер заявил, что он ставит все на место? Вот что я отвечу главному режиссеру: потуги изображения райкома в этом спектакле – чистая проформа! Тут собрались не пни березовые, Юрий Петрович. В этом спектакле такая антисоветчина, что его ничто не спасает.
— Но ведь это, Екатерина Алексеевна, напечатано, — негромко возразил Любимов. – И не где-нибудь, а в «Новом мире»!
Фурцева оглянулась, рассмеялась и вновь повернулась к Можаеву.
— Вы думаете, Можаев, что если вас напечатали в «Новом мире», то вы далеко поедете? Нет, Можаев! Садитесь!
— Не сяду! – крикнул Можаев. — Честь имею! – отчеканил он и почти строевым шагом вышел из зала. Возникла тяжелая пауза, которую нарушил отчаянный голос Любимова:
— А вы думаете, что вы далеко пойдете с вашим «Октябрем»?
Все актеры за кулисами аж подпрыгнули:
— Шеф, зачем?- кричало все внутри у каждого работника театра. Потом он объяснил, что имел в виду не Великий Октябрь, а журнал «Октябрь» Вс. Кочетова. Но было уже поздно. На эту реплику министр вскочила и понеслась:
— Ах, вот вы как! На березу водрузили «Новый мир» и думаете, что у вас что-то изменится? Новый мир появится? Вам другой мир нужен. Вам наш «Октябрь» не угоден. Я буду на вас жаловаться в ЦК! Леониду Ильичу Брежневу! Весь театр надо разогнать! Здесь нет Советской власти! Я сейчас же поеду к Леониду Ильичу и расскажу, что здесь происходит.
У неё упала шуба, но она о ней даже и не вспомнила – опрометью выбежала из зала и на весь театр хлопнула дверью. Потом кто-то прибежал и осторожно шубу взял, словно там была главная часть министра.
После прогона коллектив стихийно собрался в тесном фойе. Здесь были Можаев, Боровский, Глаголин, Дупак, гости, не сумевшие посмотреть спектакль.
Любимов закурил, кто-то положил на небольшой стол пепельницу.
— Наверху нам было сказано, что спектакль закрыт. Но я не горюю. Что дает мне силы? То, что при этом закрытии, вы, мои товарищи актеры, безукоризненно работали при пустом зале, когда сидели люди, которые умерщвляют искусство, а, значит, и душу своего народа. Спасибо вам за труд, я оптимист, этот спектакль обязательно пойдет.
Вскоре стало известно, что Любимова сняли с работы и исключили из партии. Однако через две недели его вызвал начальник управления культуры Москвы Борис Иванович Рудаков.
— Поздравляю, Юрий Петрович, ваше письмо дошло до товарища Брежнева. Вас вновь примут в партию и возвращают в Театр на Таганке. Однако по поводу спектакля «Живой» принято жесткое решение. Куда как жестче, чем на первом этапе предлагало вам управление.
— Ну как же можно со мной без жесткого решения… И что же я теперь должен делать? – с интересом спросил режиссер.
— Вот приказ №58 Управления Культуры Исполкома Моссовета от 12 марта 1969 года. Рудаков протянул бумагу и сказал:
— Читайте вслух, если с чем-то не согласны, возражайте…
— Спасибо, мне уже прислали копию: «получился идейно порочный спектакль, искаженно показывающий жизнь советской деревни 50-х годов». Вот именно по этому пункту я возражаю и повторяю вновь: я оптимист, этот спектакль когда-нибудь пойдет.
— Ну что ж, возможно! – Только не забывайте старую присказку, Юрий Петрович: «Когда дураки поумнеют, придут новые дураки».
Кстати, об оптимизме и пессимизме. Знаете, Юрий Петрович, кто изобрел пессимизм? Гамлет. Весь мир сделался печален от того, что изведал некогда печаль этот сценический персонаж. Так вот, Юрий Петрович, ваш оптимизм по поводу «Хроник» Шекспира, на самом деле пессимизм. А пессимизм по шекспировскому «Гамлету», это как раз и есть оптимизм. Ставьте Гамлета. «Гамлет» — это европейская специальность, докажите, что это не так.
— Не люблю договоренности «на бегу», будет разрешение — будет и результат.
— Хорошо, за разрешением дело не встанет. Рудаков вышел из-за стола, проводил Любимова до дверей и на прощание протянул руку.
— Не надо горевать, Юрий Петрович. Ведь мне досталось не меньше вашего. Обиды от власти нужно сносить не просто терпеливо, но с веселым лицом: если они убедятся, что и впрямь задели вас, непременно повторят.
— Повторят! И еще не раз! Но «куда я иду, вы не можете прийти». Всего хорошего, Борис Иванович.
— Вам того же, Юрий Петрович.
Любимов пожал протянутую руку, вежливо поклонился и вышел из кабинета.
Ах, эта свадьба!
Наступил май. В праздник Победы была назначена свадьба Виктора и Татьяны. Этот день, оказывается, не отменял работу Грибоедовского загса.
И вот, звучит «Свадебный марш» Мендельсона: в зал торжественно входят Виктор и Татьяна. За ними родители, отец Самойлова – Александр Павлович. Следом сокурсники жениха: Алиса Чернова, Владимир Насонов, Люся Животова, родственники Татьяны. Все весело переговариваются. Звуки музыки затихают: регистратор объявляет фамилии бракосочетающихся.
— Сегодня вступают в брак Татьяна Кроткая и Виктор Самойлов. Прозвучал главный вопрос:
— Является ли ваше желание вступить в законный брак искренним?
Оба в напряженной тишине ответили:
— Да!
Затем последовало объявление:
— По вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется.
Татьяна и Виктор расписываются, затем под аплодисменты целуются. Регистратор объявляет их мужем и женой. Под музыкальный марш вносят шампанское. Все шумно поздравляют Татьяну и Виктора.
На выходе жених и невеста с друзьями садятся в заказанную «Чайку». Все остальные — в автобус малого класса – «РАФ -976». Машины направляется на «Матвеевскую». Вместе с Самойловым и Таней в «Чайке» находятся: Качанчик, Бориска, Филатыч – все выпускники «Щуки». Прямо в машине ребята открывают бутылки шампанского. Бориска – друг Самойлова, произносит тост:
— Виктор, Таточка – мы вас от всей души поздравляем! Все прошло прекрасно! Как же я вам завидую! Захотелось и самому, вот так погарцевать. За вас, за ваше счастье! Горько! Все подхватили:
— Горько! Горько! Горько!
— Володька, — скомандовал Бориска, — смотри, какая погода, какие краски? Давай вашу «Разноцветку»!
— Тогда налейте трубадуру еще, для связок. Качанчик выпивает, открывает чехол, достает гитару и начинает петь:
У окна я стою, как у холста:
Ах, какая за окном красота,
Будто кто-то перепутал цвета,
И Неглинку, и Манеж…
Над Москвой встает зеленый восход,
По мосту идет оранжевый кот,
И лоточник у метро продает
Апельсины цвета беж.
Свадебный кортеж быстро мчится по Москве. В машине весело: все поют. Затем звучит поэтическое поздравление Филатыча:
— У меня тоже кое-что припасено, словно для вас. Читает свое стихотворение:
Где-то полные бокалы
Звонко сходятся в вокалы,
А земля пьяным-пьяна, ах, ей сейчас поспать бы,
Словно гостье с чьей-то поздней свадьбы.
…………………………………………………
И дома прямы и величавы,
Как родня невесты при венчаньи.
Все хлопают. Снова – «Шампанское» и поздравления: «Горько!». Машины сворачивают за город, на Матвеевскую.
Прибыв в Матвеевскую, все рассыпались по участку. Гости сразу заметили, что чистота и порядок на участке превосходные. То и дело раздаются восклицания:
— Слушайте, какая красота.
— Как здесь хорошо.
— Несколько километров от Москвы – и совсем другой воздух.
Действительно, трудолюбивые родители Татьяны каждую весну превращали загородный дом и участок в сказочное место. Пока Вера Владимировна со своей сестрой расширяли плацдарм для большего числа гостей, Алиса и Люся уговорили Самойлова показать теплицу и участок.
— Витька, есть время – давай взглянем на подсобное хозяйство. Люся и Алиса подхватили Самойлова под руки и потащили в глубину участка.
Восхищаясь и охая, они разглядывали теплицу. В ней уже пошли в гору огурцы, вовсю зеленел лук и укроп.
— Слушай, Самойлов, — с откровенной завистью заговорила Люся, — ну ты и жук навозный оказался! Нет-нет, не надувайся. Я в хорошем смысле слова, Витюша. Значит у них, кроме этой замечательной дачки, есть еще и квартира в Москве? Самойлов нехотя кивнул головой и промолчал.
— Хорошо, а где спрашивается, будут жить молодые?
— Не все ли тебе равно, Люська, — не выдержала Алиса. – Витьке повезло, нашел хорошую девочку, у ее родителей есть для них квартира… На «хорошую девочку» Животова скорчила кислую мину, но промолчала.
Когда Самойлов отошел нарвать для сокурсниц тюльпанов, она тихо добавила: « Ты лучше о себе подумай, подруга. Говорила тебе, держись Витьки, он везучий… Теперь кусай себя за одно место. Видишь, как получилось, твой Алешка сделал «ход конем» и того гляди …сорвется. А Витька, другой. С ним вы бы смотрелись, да и с жильем наладилось бы. Ему комнату давали на Дубининской. А теперь ему все пофигу, двухкомнатная квартира на Беговой. Повезло Таньке, Витька надежный».
— Не верю я в такие скоропалительные женитьбы. Если я захочу, я его у этой длинноносой в одну ночь отобью.
— Не вздумай! И не говори глупости, поезд ушел. Витьку тебе не вернуть.
— Ладно, посмотрим. Ты-то как? Рожаешь?
— Рожаю, — уверенно ответила Алиса, обороняя от Люськиных глаз свой небольшой животик.
— От Насонова?
— От Насонова. Всё остальное…
— Телевидение! – усмехнулась Люська.
— Ну, тебя к черту, Люська. Ты стала невозможной. Пойдем, порадуемся чужому счастью. Только бы Володька не напился. Он у меня – молодец, сыграл Хлопушу, сейчас в завязке.
— Ну и что? Мой Алешка не пьет, а начнет, так бочку за один присест вместе с дружками уговаривает. Россия страна северная, Алиса, нам — калории нужны.
Наконец, подошел с цветами Самойлов и торжественно вручил каждой из сокурсниц по букету. Люся схватила Виктора под руку и на обратном пути, как ни в чем не бывало, запричитала:
— Насоныч говорит, что ты здорово Керенского сыграл? Якобы Любимов тебе специальное поздравление сделал?
— Да ничего особенного. Просто написал на программке: «Самойлов, живи долго, как Керенский, ибо стиль премьера ты постиг! Твой мучитель Любимов.
Вдруг навстречу им прилетел с возбужденным лицом, уже подвыпивший Бориска и стал всех пугать:
— Пропала невеста. Всё! Таню украли! Она пропала. Невеста исчезла.
Значит так, — с горящими глазами заговорщика заговорил Бориска, — Витя, либо ты ищешь, либо платишь выкуп! Все, невеста исчезла! Самойлов бросился искать. Во всех частях дома гремел его голос: «Таня! Танечка! Где ты, Таня?»
Самойлов под общий шум и смех долго по всему дому искал невесту, которая, в конце концов, оказалось в погребе. Когда найденную невесту привели за стол, все, наконец, расселись и слово взял Борис Иванович.
— Дорогой Александр Павлович, жена моя – Вера Владимировна, дорогие гости, спасибо вам, что вы в этот торжественный день свадьбы нашей дочери Танечки и дорогого моего зятя Виктора, приехали в этот дом, повидавший немало всего, в том числе горя и неизведанного счастья, и вместе с нами, разделите наше торжество: свадьбу этих красивых и молодых людей. Давайте выпьем за их благополучие и совместную жизнь на долгие годы. Как говорится – горько!
Все громко закричали: «Горько! Горько! Горько!»
Молодые целуются. Гости выпивают и закусывают. Звон приборов перемешивается с оценками происходящего и общим разговором. Родственники по материнской линии незаметно перешептываются: скажет гость – Александр Павлович следующее слово или вначале будет говорить мать невесты Вера Владимировна?
Шура — сестра Веры Владимировны, настойчиво подталкивает её выступить первой. Но та громко обращается к отцу Самойлова:
— Я думаю, мы попросим благословить наших детей, жениха и невесту, отца Виктора – Александра Павловича.
Александр Павлович, стройный, легкий на подъем, мужчина лет под пятьдесят, с колодкой наград на пиджаке, оглядывает всех присутствующих. За столом сразу замолкают. Все вдруг замечают, что отец жениха необыкновенно красив: густая черная шевелюра, вскинутые дугообразные брови, прищуренные, синие глаза. Голос у него командирский, но спокойный.
— Благословить дело хорошее, Вера Владимировна. Но мы ведь тут не в церкви. Семейное дело – это дело рукотворное. Как заживете, так и пойдет дальше. Виктор зачат в окопе, тогда привилегий у лейтенантов не было. Расписывались в Вязьниках, в 45 – ом. Такого, – он указал на стол, – и в помине не было. Но как бы быстро мы не сходились, ответственность появлялась незамедлительно. Тут все просто – война, сегодня счастье, рядом она – завтра все может кончиться. Мы, мужики, были благодарны – тебе в этой мясорубки повезло – с риском для жизни, девушка дарит тебе свою любовь. В такой ситуации все было навечно. Один налет, одна бомба и вас нет. Поэтому такая любовь не только счастье, но и как сказала Вера Владимировна, — благословение. Поэтому я вас благословляю. Невеста у тебя красивая, Виктор — на Офелию похожа. Береги её.
— А кто такая Офелия, дядя Саша? Принцесса? – сияя от комплимента, спросила Татьяна.
— Ну, миленькая, это знать надо! – с вызовом прозвучал голос Люси. Воцарилась ватная тишина и вдруг подвыпивший Насонов пробасил:
— Ну, ты и хамка, Люська! Такую песню испортила.
— Почему это, хамка? Я так, к слову.
— Такие вещи вслух не произносят.
— Воспитанные люди таких замечаний невесте не делают. Обзавидвалась чужому счастью — вот как это называется.
— Володя, прекрати сейчас же, — одернула мужа Алиса. — Перебили такой тост.
— Действительно, гистрионы, возьмите себя в руки — выкрикнул Филатыч и, обернувшись к Александру Павловичу, сказал:
— Александр Павлович, простите нас. Актеры, как говорил Чехов, сукины дети, иногда несут, что попало. Закончите тост, пожалуйста.
– Вас как зовут? – обратился Александр Павлович к Люсе.
— Люся! Я сокурсница вашего Виктора, — нехотя отозвалась Люся.
— Нельзя так, милая. Тем более Таня права: Офелия действительно принцесса. Видя, что у Тани навернулись слезы, Александр Павлович добавил:
— И наша Танечка, то же принцесса. Извинитесь, пожалуйста, Люся. Вновь возникла ватная тишина.
— Извините, — сквозь зубы процедила Люся и, резко отодвинула стул. Но выбираясь из-за стола, искоса поглядывая на Татьяну, сказала:
— На Таганке собираются ставить «Гамлета», а она даже не знает, что там есть Офелия. И не принцесса она никакая, а дочь Полония!
Не оглядываясь, она вышла в коридор и судорожно полезла в оставленную там сумку за сигаретами.
— Ну, что ж, люби другого, сколько тебе угодно, но не требуй взаимности, — с усмешкой продолжил отец Виктора. — Итак, шагом марш дальше. Собственно я заканчиваю: берегите друг друга, мои дорогие, хороших вам детей, добросовестного труда
Сразу после здравицы Александра Павловича, быстро поднялась Вера Владимировна и, торопливо поздравив молодых с вступлением в новую жизнь, предложила:
— Сегодня день Победы в самой страшной войне. Давайте сделаем так, чтобы это, во-первых, никогда не повторилось, а во-вторых, я предлагаю всем вместе для Александра Павловича, который защищал Сталинград и брал Берлин, для всех нас, молодых и старых, что-нибудь спеть вместе. Ну, вот хотя бы это!
Вера Владимировна оказалось певуньей и все сразу подхватили:
Расцветали, яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
В середине песни в комнату шумно ввалилась компания молодых людей. Наташа — пышечка, Кирилл, Геннадий – крокодил — все из компании с улицы Беговой.
— Танька! – начинает Наташка, — «Беговая» к тебе приехала. Поздравляем! Три — четыре: «Горько!» Все вошедшие кричат: «Горько!» Молодожены целуются. Общие аплодисменты.
— Принимай, Вера Владимировна!
Опоздавшие гости выкладывают на стол бутылки, цветы, большой торт.
— Виктор, — продолжает Наташа, — спасибо тебе за билеты в театр. Мы посмотрели на Таганке «10 дней! Это было здорово! Правда, ребята?
— Да! – дружно ответили приехавшие.
— Кстати, с нами был Геннадий, — интригующе продолжила Наташа. — У него свое слово!
— Во-первых, гости дорогие, простите, что мы опоздали. Праздник!… Пока все соберутся — обязательно опоздаешь. Но мы приехали! Поздравляем жениха и невесту! И еще: Виктор, мы с тобой однажды поцапались, чего не бывает, прости ты меня, дурака! Как говорится, не разглядел, с кем имею дело. Вот тебе мой подарок. Говорят, что ты увлекаешься шахматами, вот самая большая шахматная доска в Москве. Все вместе покупали. А это тебе, Танюша — духи «Шанель 5» от меня Настоящие.
Раздались громкие реплики: — Вот это да. Вот это подарок!
Геннадий передал подарки и через стол протянул руку Самойлову. — Спасибо! — ответил Виктор и пожал притянутую руку.
— Рад тебя видеть, Гена. — Присаживайтесь. Вон там есть место. Тетя Шура – готовьте резерв, в коридоре есть скамейка.
Опоздавшие гости принялись устраиваться за столом. Мужчины через стол передают на руках длинную скамейку.
Пока царит общая неразбериха, щукинцы – Филатыч и Качанчик выходят покурить.
— Люська одурела, — прикуривая от одной сигареты другую, жалуется Филатыч. — Наглая, как кошка. Всех завела. Девчонке всего восемнадцать лет, а будто она все знала, когда поступала.
— Ревнует, — ответил Качанчик. — Целилась в Витьку, попала на Алешку с «Малой Бронной», который поматросил и бросил её. А теперь локти кусает. Озверела, взяла и девчонку обидела ни за что, ни про что. Куда Бориска делся?
— Скетч какой-то готовит. Пошел петуха из курятника доставать.
— Петуха?! Он что, напился?
Вдалеке звучит голос Насонова, он читает стихотворение Семена Гудзенко:
Когда на смерть идут – поют,
А перед смертью можно плакать.
………………………………………
В коридоре, прислушиваясь к чтению стихов, продолжают разговор.
— То-то еще будет, — заметил Качанчик, показывая на девчонок, — вон сколько «солнышек» прикатило.
Рядом в другой комнате Люся, приводит себя в порядок перед зеркалом, затем надевает куртку и идет на выход.
— Ты куда? – перегородил дорогу Филатыч. — Что за бегство? Вспомни вот это:
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!»
— Вот именно, Леня, воля моя говорит, иди. Передайте Виктору, что свадьба в мае – всю жизнь будет, маяться. И, тем не менее, я желаю им счастья.
— Люся, стоит актрисе хоть раз выступить в роли обиженной и ты уже никогда не получишь другой роли.
— Кто это сказал? Почему?
— Ты не поверишь, но это сказал я.
— Не страшно. Страшно лицемерие и прикиды. Глядя, как Виктор играете жениха, понимаешь, почему Офелия утопилась. Пока.
В последний момент Филатыч успевает удержать Люсю.
— У тебя есть сигареты? – спрашивает он.
— Вот тебе пачка и отстань.
Люся достает из сумки сигареты, бросает Филатычу и уходит.
В большой комнате раздаются аплодисменты адресованные Насонову. Звучит тост тети Шуры и снова кричат: « Горько!» Люся останавливает рядом с домом какую-то машину и уезжает.
В дом врывается возбужденный Бориска с большим, хлопающим крыльями петухом. Все собравшиеся с нескрываемым изумлением смотрят на Бориску, который на одной руке держит, как ловчую птицу петуха, другой призывает всех успокоиться.
— Прошу внимания: юмористическая импровизация. Исполнители: петух Мендельсон и шафер свадьбы Борис Мамонт.
Концерт для двух голосов.
Познакомьтесь, это Петя: Любо?..
Чтоб не вешали вы губы…
— Поиграем, Петя?
— Свадьбу — я веду!
— Ладно — посему!
В каждой свадьбе два завета,
Да, любви, а верность следом,
Молодец, Образцовский наш дуэт,
— Кто здесь лишний?
— Лишних нет.
Рви на финиш, Витя, Таня!
Ленту в клочья!
— Три ребенка!
— Это точно!
Пьедестал Вам для свершений!
Но вопрос для уточнений
Доживем до золотой мы?
— Без сом-нений!
Раздаются бурные аплодисменты. Перепуганный петух неожиданно срывается с руки Бориски, перепрыгивает на стол и начинает крушить все, что ему попадает под ноги и крылья: падают бутылки и бокалы, опрокидываются тарелки и цветы в вазах. Кто-то пытается петуха поймать, но он не дается. Наконец открывают окно, и петух выпархивает наружу.
И сразу в дом врываются отголоски салюта, в небе вспыхивают разноцветные зарницы от выпущенных ракет.
Поздно ночью в разных положениях, по всему дому, спят оставшиеся на ночь гости. Виктор и Таня, прижавшись, друг к другу, устроились на матрасе, среди убранной стопками посуды. Молодым не спится.
— Витя, что это было?
— Свадьба, Таня.
— Значит я теперь жена?
— Да, Танюша, теперь ты жена.
— А почему мне так грустно?
— Потому что устала, и я тебя еще раз не поцеловал.
Целуются. Самойлов вдруг начинает смеяться.
— Что случилось?
— Вспомнил: «петуха Мендельсона». Старик с перепугу умер.
— Жалко! Говорят плохая примета.
— Ну вот! Ты что это, комсомолка?
Крепко обнимает Татьяну. Не бойся, все будет хорошо.
— Ты меня любишь?
— Очень!
— Очень – очень?
— Вот так и… очень.
Катаев как зеркало русской идентичности
Когда вывесили приказ о постановке в театре «Гамлета», Самойлов был назначен четвертым исполнителем Лаэрта. Первым был Золотухин. При таком раскладе, шансов у Самойлова не было. «Хозяевами таганской «тайги» были два мил-сердечных друга. В единственном числе — Высоцкий и первый исполнитель Лаэрта – Золотухин. Однако надо отдать должное Золотухину: он подошел к Самойлову, поздравил его и бросил:
— Не тушуйся.
Незабываемой оказалась первая репетиция Гамлета.
В переполненный зал, где торжественно сидела почти вся труппа и сотрудники цехов, неожиданно вошли вместе с Любимовым Боровский, Дупак, какой- то незнакомый мужчина и в конце, встреченный аплодисментами, композитор Шостакович. Все сразу решили, что музыку будет писать знаменитый композитор. В подтверждение этого в зале раздалась увертюра Шостаковича, написанная к недавно прошедшему «Гамлету» Козинцева со Смоктуновским в главной роли. Неожиданно под эту музыку в проходе появился незнакомый мужчина весьма импозантной внешности и, поднявшись на сцену, стал на английском языке читать монолог «Быть или не быть».
«Неужели пригласили кого-нибудь из-за границы»? – стали перешептываться актеры. — Может это для страховки Высоцкого на случай неудачи или срыва.
Загадка раскрылась сразу после чтения. Любимов представил исполнителя. Им оказался некий кандидат филологических наук, ученик шекспироведа А. Аникста. Аникст сделал для театра композицию по шекспировским «Хроникам». Они, по причине «аллюзий и ассоциаций» Управлением культуры были запрещены, но знаменитый маэстро, тем не менее, был, хоть и недолго, сердит на театр. Вот почему появился его преданный поклонник.
После такого необычного начала работы над «Гамлетом» Любимов вызвал на сцену первый состав, и началась первая репетиция. Просидев в зале до конца репетиции, Самойлов решил позвонить жене. Пошел в кабинет завтруппой и тут его перехватил артист Вячеслав Королев. Он был третий Бернардо и тоже маялся в неизвестности — играть или не играть.
— Виктор, я — в Переделкино. Хочу навестить могилу Пастернака. Поедем вместе?
— А что, можно. Он позвонил жене, и сказал, что будет позже.
На Кивском вокзале взяли билеты и через 25 минут оказались на станции Переделкино. Шли пешком: мимо Патриаршего подворья, церкви и, наконец, пришли на кладбище. Могилу нашли быстро. На холмике, рядом с незамысловатым памятником лежали маленький букетик цветов, и скукоженный, но большой венок от Австрийской профсоюзной организации. Слава поднялся на возвышение и, размахивая руками, прочитал свое стихотворение. Собственно, их обоих и свела в театре тяга к литературному творчеству. Самойлов закончил одноактную пьесу и нашел в Королеве не только толкового критика, но и интересного поэта. Впрочем, в эту пору на Таганке литературным творчеством занимались многие. Золотухин опубликовал повесть, Смехов был не только ведущим артистом, но сделал великолепный сценарий к спектаклю «Послушайте». Позже появился талантливый Филатов, не говоря уже о Высоцком, чья слава набирала небывалые обороты. Все капустники изобиловали замечательными поэтическими сюжетами, не говоря уже о том, что мэтры – Евтушенко, Вознесенский не только были представлены на сцене, но и запросто приходили в театр. Вполне изучив Переделкинское кладбище, приятели решили посмотреть на знаменитый Дом творчества писателей.
И тут произошло неожиданное событие. На улице Серафимовича Королев разглядел гуляющего писателя Валентина Катаева. Одет он был в незаметный старый плащ, на голове была кепка, но Королев по носу узнал его.
— Давай подойдем? – предложил Слава.
— Неудобно, — застеснялся Самойлов.
— Да чего ты? Пригласим в театр, узнаем, над чем мастер работает? – настаивал Королев.
— Он дружил с Есениным, — вспомнил Самойлов, — давай пригласим его на «Пугачева» — наверняка не видел.
Подошли. Представились.
— А что вы тут делаете, господа таганцы? – с неким лукавством спросил маэстро. Катаев был настроен благодушно, но улыбались только губы.
— Ходили на могилу Пастернака. У нас ставят «Гамлета» в переводе Пастернака. Вот мы и приехали зарядить, так сказать, «аккумуляторы», — бойко ответил Королев.
— Но это не все, — подхватил Самойлов, — во-первых, мы знаем ваши произведения. На нашем курсе играли «Квадратуру круга», во-вторых, у нас возникла идея, Валентин Петрович, пригласить вас на спектакль Есенина «Пугачев».
— Ах, вот как! Значит на «Пугачева»? Ну что ж, вполне, вполне…Можно сходить. Только не надо хлопотать о билетах, я позвоню Юрию Петровичу и все улажу. Когда ближайший «Пугачев»?
— Послезавтра, — бойко ответил Самойлов.
— Кто из вас там играет? Оба?
— Там играет вот он. Его фамилия Самойлов, зовут Виктор, — отрапортовал Королев.
— Как Виктор играет?
— Здорово! Приходите, посмотрите.
— Ну что ж, рад знакомству, молодые люди, а сейчас я вас приглашаю на чай. Моя прогулка закончилась.
Катаев посмотрел на часы и протянул руку в сторону двухэтажного деревянного дома на другой стороне улицы.
В доме их встретила жена и быстро организовала чай и печенье.
— Есть у меня одна фотография Есенина, я её вам подарю.
Катаев достал альбом и, порывшись, вынул фотографию. На ней Есенин был в шубе, с несколько мрачным, задумчивым лицом. Здесь он без позы и пудры.
— Возьмите на память. Пусть ваши «аккумуляторы» наполняются невыдуманным Есениным.
Самойлов, приглашавшийся Московской филармонией на концерты и давно мечтавший сыграть один драматическую поэму «Пугачев, почувствовал, что от Катаева можно получить о Есенине какую-то сенсационную информацию.
— Вы меня заинтриговали, Валентин Петрович. Что значит «невыдуманный» Есенин?
— Я его неплохо знал. Вначале его вознесли, потом при советской власти, Бухарин и Троцкий изрядно потрепав, запретили, а позже, как это у нас бывает, захвалили до небес. Красавиц, бабник, а тут еще Айседора Дункан … В дополнение решили, что повесился.
Катаев передохнул, отпил маленький глоток еще неостывшего чая и продолжил:
— Через год на могиле еще и застрелилась единственная женщина, которая его любила – Бениславская. Еще одна сенсация — сотрудница ГПУ застрелилась. Он ведь был страшным саморекламщиком, поехал в Ленинград создавать литературный журнал, по дороге разным стукачам наговорил бог знает что. А тут еще съезд, лютая борьба сталинистов и троцкистов. Зачем ему было вешаться? Запоя тогда у него не было, депрессии тоже. Наоборот женился на внучке Толстого, как шутили тогда — «Королевич» сел на трон великого старца». К тому же, у него был револьвер, мог бы легко застрелиться, чем лезть под потолок, куда попасть, даже при большом желании, не было никакой возможности. Время изменилось, революция перерождалась в термидор, а он по-ребячьи выдумывал про себя всякие истории, задевая сильных мира сего, к которым он никогда не принадлежал. И вот результат: погиб в расцвете сил, не сделав и четверти того, что ему давалось легко, божьим провидением. Однако нельзя забывать, что «во всех непредвиденных случаях, надо помнить, что все ниспослано Вседержителем». К тому же, как ни тяжело мне это говорить, но он был горьким пьяницей. Одно время я почти каждый день с ним встречался, и всегда от него пахло перегаром. Надо было иметь двужильное терпение, чтобы с ним не ссориться. Горький все время в письмах учил Сталина: «Нужно иметь национальную линию». А Есенин мог быть, со временем, конечно, стать превосходным русским поэтом «национальной линии». Его знают в основном песенного: «Клен ты мой опавший» или «Выткался над озером алый цвет зари». Последнее и вовсе написано в шестнадцать лет. А ведь серьезного Есенина не знают. Не знают «Страну негодяев», где он вывел Чекистова, этот прообраз Троцкого. Есть там одно место, впрямую относящееся к Наркомвоенмору. И тут Катаев неторопливо, какой-то серой краской прочел несколько строк из
«Страны негодяев»:
«…Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что….
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет!
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие…
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!…»
— Вот ведь с кем не боялся сталкиваться наш «Королевич», — продолжил он после короткой паузы.
— Не знают и его «Пугачева». Спасибо вашему театру, Любимову и, кстати, Эрдману, который надоумил Юрия Петровича поставить этот спектакль. А у нас в это время были Блок, Гумилев, да тот же замечательный Клюев… Сегодня кажется, что Есенин затмил даже Блока, а ему тогда можно было , не стесняясь, завязывать шнурки на штиблетах гениального Блока. Он, кстати, точнее всех сказал о Есенине: «Стихи у поэта ясные, чистые, язык…». Ведь не сказал «гениальный поэт», а сказал просто, но весомо — Поэт. По вашим глазам, молодые люди, я вижу, что вас разочаровал? Но, это моя точка зрения. Когда-нибудь я об этом напишу. Я ведь хорошо знал и «мулата». Есенин недолюбливал его, порой они так сцеплялись, что страшно становилось.
— А кто этот «мулат», неужели Пастернак? – с горящими глазами спросил Королев.
— Да. Есенина мы звали – «Королевичем», а Пастернака «Мулатом».
— Валентин Петрович, — сжавшись в комок и глядя в пол, заговорил несвойственным себе голосом Самойлов. Честно говоря, я после вашего рассказа в каком-то недоумении.
— Ага, значит задело.
— Очень и… готов поспорить.
— Пожалуйста, я готов слушать.
— Но вначале я хочу вам прочитать одно стихотворение. Можно?
— Есенина?
— Нет, другого поэта, но, на мой взгляд, первоклассного. Можно?
— Да, что вы заладили, конечно, можно.
Катаев откинулся на стуле, навел радаром свой нос на Самойлова и стал слушать. Виктор стал читать:
Я переписывать не стану.
Из книги Тютчева и Фета,
Я даже слушать перестану
Того же Тютчева и Фета.
И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану
В того же самого Рубцова,
Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова
— Ну что ж, хорошо читали, — губами улыбнулся Катаев. — И стихотворение искреннее. Этот Рубцов — талантливый поэт. О нем знают, говорят… Но какое отношение он имеет к нашему разговору? В чем здесь ваше «поспорить»?
— Здесь все, в чем вы упрекали Есенина. И самореклама, и гордыня, и даже поза… Но в стихотворении есть то, ради чего я его прочитал и чего, как мне кажется, вам не удалось в вашем рассказе избежать.
Вот это строчка: «И я придумывать себя не стану, себя особого…» Простите, но так и хочется сказать: особого Катаева. И дальше: за это верить перестану,… Вы на волосок были рядом с гением, и вас раздражало его состояние?… Не верю, что только это. Вы что-то не договариваете. Я часто бываю в Литинституте, даже мечтаю поступить туда заочно, но о Рубцове там только и слышу: да, конечно, хороший поэт, но… и пошло — поехало… И я понял, ему просто завидуют. А зависть надо заслужить.
— Понял, вы хотите сказать, что в моем рассказе о Есенине чувствуется зависть? Значит, исправлюсь. Жюль Ренар прав: «Правду лучше не говорить, но всегда говорить правду». Я подбираюсь к одной большой работе, где буду вспоминать молодость, в том числе и Сергея Александровича. Спасибо, вы помогли мне заметить ошибки.
— Мой друг, позвольте прочитать ваше творение! — обратился Катаев к Самойлову… — Что это, поэзия?
— Нет, пьеса.
— Привезите экзеплярчик, я обещаю не завидовать.
— Вы обиделись, Валентин Николаевич, но будьте милосердны и подумайте: все мы уйдем, а ваш друг, от которого постоянно пахло перегаром останется. И это огромное счастье, что вы с ним общались. Лично я вам завидую. И мы будем рады, если вы придете на «Пугачева». В этот момент где-то раздался телефонный звонок и голос жены. Потом она вошла и сказала:
— Извините, гости дорогие, но Валентина Петровича зовут к телефону. Дальше послышалось:
— Звонит Михалков, просит тебя выступить… Вскоре они попрощались с гостеприимным Катаевым и вернулись в Москву. По дороге Королев все время ругал Самойлова, за самоуверенное нахальство и за то, что выставил талантливого писателя Катаева в роли Сальери. Виктор оправдывался:
— Не знаю, что на меня нашло, но я не хотел кричать «ура».
Самойлов больше никогда не видел Катаева живым. Не слышал он и о том, что Катаев побывал на «Пугачеве». Позже, он прочитал роман Катаева «Алмазный мой венец» и обрадовался. Все там было по-другому, великодушно и талантливо. Вечная память тем, кто превращает кровь в чернила.
Репетиция – любовь моя?
Конечно репетиция – любовь моя. Но если ты репетируешь во втором- третьем составе, а в первом назначена какая-то звезда, то репетиция превращается в танталовы муки.
С « Гамлетом» все было именно так. Первый состав репетировал на сцене, все другие сидели в зале, а иногда и манкировали своими обязанностями. Только на сцену дуэли с Гамлетом приходили все Лаэрты. Но и тут с Высоцким дрался Золотухин, а потом по «остаточной квоте» фехтовали другие, в том числе и Самойлов.
До этого с Высоцким Самойлов играл мало. Правда было однажды ввод в «Жизнь Галилея», на роль друга Галилея Согрэдо, но вводил не Любимов и это никак не запомнилось. Поэтому как Высоцкий репетировал от начала до конца, Самойлов не знал. До «Гамлета» был «Тартюф», где был занят Самойлов, и «Что делать?», где они оба не участвовали. Потом были «Берегите ваши лица» — спектакль, в котором Высоцкий пел свою знаменитую «Охоту на волков», после которой зрители в три горла орали: «Повторить!» Потом был потрясающий спектакль « А зори здесь тихие» с непревзойденным В. Шаповаловым и замечательным И. Бортником. В театре этих актеров очень любили. Ивана Бортника — за вулканический темперамент, за острую характерность в любой роли, за находчивость и любовь к импровизациям, от которых подчас все теряли самообладание. Виталия «обзывали» по-дружески «Шапеном», но это никак не умаляло глубочайшего уважения к его таланту, музыкальности, к его актерским вершинным созданиям – Пугачеву и Васкову.
Говоря о женской половине труппы театра на Таганке, принято упоминать, прежде всего, Зинаиду Славину и Аллу Демидову. Конечно, это великие актрисы, гордость «женского лица необщим выражением» труппы театра на Таганке. Но ведь рядом были замечательные М. Полицеймако, Н. Шацкая, М. Т. Жукова, Л. Савченко, И. Кузнецова, Л. Коморовская, В. Радунская, Т. Лукьянова, Т. Иваненко, Е. Корнилова, а позже в театр пришли великолепные Т. Сидоренко, Н. Сайко и Л. Селютина. У каждой из перечисленных актрис были такие взлеты и достижения, что не хватит места, чтобы их перечислить. Коротко это удалось только А. Вознесенскому, написавшему на стене в кабинете Любимова короткий мадригал этим актрисам: «Все богини, как поганки, перед Бабами с Таганки».
Первые репетиции с Высоцким были посвящены религиозной составляющей этой пьесы. Написана она была Шекспиром в1600 году, в 35 лет. «Гамлет» или «Гамнет» (так Шекспир назвал своего сына, умершего в 11 лет) была единственной пьесой, которую автор писал целый год. В театре «The Globe», (в переводе это не только обыкновенный школьный глобус, но и земной шар) в это время не было никакой гонки, и Шекспир сумел отделать ее, как, ни одну из своих других пьес. В ней очень силен мистический и религиозный элементы. В разборе Любимов много уделял внимания именно этой стороне пьесы. Об этом он коротко рассказывает в своей книге. Самойлову казалось, что для Высоцкого очень важна была сцена молитвы короля, начинающаяся со строк:
Удушлив смрад злодейства моего.
На мне печать древнейшего проклятья:
Убийства брата. Жаждою горю,
Всем сердцем рвусь, но не могу молиться.
Помилования нет такой вине.
И так же важно было решение Гамлета в данный момент не мстить Клавдию. Володя играл эту сцену потрясающе. Самойлов всегда смотрел её из-за кулис и поражался выносливости Высоцкого. Позади большая часть пьесы, на нем удушающий, черный свитер, выпаривающий из него по два килограмма пота за спектакль и, несмотря на это, душераздирающий, бешеный темперамент, ясность мысли и глубина прозрений. До сих пор в памяти эта сцена и яростный голос Гамлета- Высоцкого, выстраивающего план мести:
Назад, мой меч, до боле страшной встречи!
……………………………………………………
— Еще поцарствуй.
Отсрочка это лишь, а не лекарство.
Спектакль рождался постепенно. Однако дуэль Гамлета и Лаэрта не получалась. Все выглядело непрофессионально и тяжело. Однажды, когда не было Золотухина, Самойлов, готовясь к своей очереди, решил размяться — стал прыгать через скакалку, прокручивая веревку по несколько раз за один прыжок. Это было старое боксерское упражнение, которое Виктор помнил с «младых ногтей». Вся эта разминка была неподалеку от фехтующих. Разминку Виктора заметил Высоцкий.
— Дай-ка я попробую, — попросил он веревку. У него получилось. И вдруг Самойлов предложил:
— Можно перед боем сделать разминку с веревкой, а потом уже драться на шпагах.
— Тогда надо найти вторую веревку.
— Зачем? Будем перебрасывать друг другу одну.
Попробовали. Сразу стало ясно, что сцена становиться динамичнее, а текст ложится в десятку. На следующий день дуэль стали репетировать на сцене.
Как всегда вышел репетировать первый состав. Стали показывать Любимову то, что наработали с репетитором по фехтованию. Все шло неплохо, но от шума шпаг смазывался текст, а дуэль и вовсе не получалась. Оба дуэлянта – Высоцкий и Золотухин — расстроились и в паузе Володя начал что-то шептать Золотухину. Валерий стал сопротивляться, не понимая, о чем идет речь. Тогда Гамлет — Высоцкий сбегал за кулисы, принес веревку и обратился к Любимову:
— Мы тут вчера пробовали с Самойловым один вариант. Можно мы покажем Золотухину и вам, Юрий Петрович?
— Ну, покажите. Где Самойлов? – спросил Любимов.
— Я здесь, Юрий Петрович, — с последнего ряда отозвался Виктор.
— Что у вас за привычка с Насоновым всегда сидеть где-то в углу?- недовольно выпалил Любимов.
— Вся жизнь актера, Юрий Петрович, это надежда, которая заканчивается привычкой сидеть в углу, — тихо, но внятно ответил Самойлов.
— Это кто сказал?
— Иванов – Козельский, Юрий Петрович, один провинциальный трагик.
— Слушай, трагик, брось валять дурака, иди на сцену. Что вы там придумали?
Самойлов без особого энтузиазма, пошел показывать Золотухину, что, собственно, ему пытался объяснить Высоцкий. Однако сработало, что – то ретивое: Виктор стремительно вбежал на сцену, быстро снял свитер, и, оставшись по пояс голым, взял у Высоцкого веревку, Затем виртуозно показал наработанное еще в боксерский период упражнение. Веревка свистела, текст буквально отлетал от зубов. В конце он бросил веревку Высоцкому, Пока шел монолог Гамлета, Виктор, схватив шпагу и нож, стал бить их друг об друга, словно разминаясь перед схваткой. В свою очередь Высоцкий так блестяще показал номер с веревкой, что Золотухин не выдержал и захлопал.
— А вы знаете, это интересно, — раздался радостный голос Кумира. — Молодцы! Тебе Валерий, надо освоить это. Но это, мои дорогие, надо развить. Повтори-ка, Виктор, как ты точил на него зуб шпагой и ножом. Самойлов повторил, но уже без прежнего энтузиазма.
— Нет-нет, в два раза быстрее, словно это настоящая дуэль. Стоп, а в конце всади нож изо всех сил в планшет.
Самойлов повторил предложенный вариант и в конце всадил нож.
— Вот теперь правильно, — раздался из зала голос Кумира. – Дуэль у вас не получается, потому что вы не профессионалы. Люди того времени часами себя тренировали, чтобы дать отпор любым встретившимся головорезам. Нам с ними нечего тягаться. Дуэль надо делать условно! Азартно и в бешеном темпе. А с веревкой хорошо. Закрепляем!
— Это Самойлов придумал, — неожиданно сказал Высоцкий.
— Хорошо-хорошо, мы это учтем во время распределения премий.
— Не надо премий, мне бы репетировать почаще.
— Завтра мы эту сцену с тобой раздраконим. Покажи Золотухину работу с веревкой.
И вдруг, словно сорвавшись, Любимов гаркнул:
— Валерий, сними ты эти черные очки, это такой штампяра! Лаэрт — не Джеймс Бонд, он сын премьер-министра, крупная фигура в датской иерархии. А потом, тогда не прятались от солнца в темных очках — солнце было религиозной святыней. Давайте сцену с выходом всех на похороны Офелии. Самойлов, пройди эту сцену и не жалуйся: ты столько играешь, что история потеряла счет.
— Юрий Петрович, у вас неверные источники информации.
— А у тебя нет чувства меры, без году неделя в театре, а ведешь себя как премьер. Всё, репетируем! Все недовольства и претензии после репетиции. Давайте, выход с гробом и так далее.… Дайте, Буцко, музыкальный кусок с акцентами.
Весь этот день Лаэрта репетировал Самойлов. После репетиции в гримерной комнате вспыхнула ссора. Высоцкий позвал Самойлова уточнить последовательность коротких реплик во время дуэли. Оба начали репетировать, как вдруг к ним ворвался Золотухин.
— Ах, вот вы где? – взволнованно начала Золотухин. — Витька, ты же знаешь, что я не могу так прыгать! У меня же ноги больные,… Какого х.. ты притащил эту веревку? А ты, Володька, какого черта купился на это? Я придумал очки, свою пластику, а он из-за вас меня с репетиции выгнал. Он — хам, а вы оба — предатели.
— Валерий, подожди, — перебил Высоцкий, — еще много времени. Мы с тобой сделаем твой рисунок, удобный для тебя.
— Да не будет этого! Как ты не понимаешь, кто на репетиции однажды становится ослом, тот никогда уже не будет лошадью. Любимов теперь никогда не откажется от такой дуэли. Я же видел, как он смотрел на вас, когда вы крутили эту змею.
— Какую змею?
— Эту веревку, Володя.
Золотухин пристально посмотрел на Высоцкого и, едко улыбнувшись, бросил:
— Поздравляю, Володя, но запомни, девятый месяц самый длинный. А ты Витя, ни в чем не виноват. Ты – счастливый соперник, но запомни, когда ты станешь мишенью, я тебя не закрою. Все, я пошел. Завтра меня не будет, пусть репетирует с тобой Витька.
Золотухин развернулся и ринулся прочь из гримерки.
Высоцкий закричал:
— Валерий, постой.… Да, постой же ты!..
Но Золотухин, размахивая костылем, уходил все дальше.
Золотухин словно напророчил. На следующий день не пришел на репетицию не он, а Высоцкий. Началась какая-то «таинственная» неделя репетиций «Гамлета» без Гамлета. Поползли, слухи, что Офелию – молодую, недавно принятую в труппу актрису Наташу Сайко, вызывали в кабинет к Любимову и там тот поочередно заставлял её репетировать то с Филатовым, то с Золотухиным. Все бросились за сведениями к Наташе. Сайко всё категорически отрицала.
Неделя закончилась общим собранием в верхнем буфете. На собрании появился Высоцкий. Он выглядел опустошенным, тихим и виноватым. Сел где-то в углу. Мял сигарету, но не курил. Большинство с нетерпением ждали увольнения. К сожалению, его «исчезновения» были не в первый раз. Любимов начал издалека. Похвалил, что, несмотря на то, что пришлось делать много замен, театр все-таки работал, потому что большинство осознают, как относиться к профессии, и к дому, который им дал всё. Вот, к примеру, Высоцкий… Ему ведь ни в чем не отказывали в театре. Позавидуешь, какой репертуар играет! Просил меня поставить «Гамлета». Так будь добр, работай! Так просто такие роли не даются. Вы пока не Пол Скофилд, голубчик. Занесло вас, Владимир. Написали две-три приличные песни и думаете, что вам все позволено? Можно театру на голову садиться? Нет, не выйдет. Я не потерплю этого. На последней реплике худрука Высоцкий встал и быстро стал уходить вниз по лестнице.
Гений — это не только долгое терпение,
но и преднамеренные ошибки.
Здесь мы сделаем небольшой отход от изложения событий и взглянем, как начинались и складывались отношения театра и Высоцкого.
Документы взяты автором из фондов о жизни и творчестве В.С.Высоцкого.
Упор делался в основном на разного рода приказы, справки и автографы В.С.Высоцкого.
Среди рукописей содержатся черновики стихов и песен, написанные Высоцким к спектаклям и юбилеям театра. Есть два документа артистической деятельности — наброски к ролям Маяковского и Гамлета. Уникальность этих документов в полной мере демонстрирует то, что уже на раннем этапе создания театра, рядом с триумфом, непременно рождалось наваждение с характерными чертами пренебрежения к тому, что в мягкой форме называется человеческим фактором.
В основу построения тематического обзора положен хронологический принцип.
Высоцкий был принят в труппу театра на Таганке в 1964 году. Первое упоминание о нем в табелях учета занятости артистов относится к 18 сентября в репетиции спектакля «Герой нашего времени»: «18.09.64 г. с 10 до 15.30 . Сцена «Герой нашего времени» Любимов. Оформление, реквизит, музыка … Все занятые и Буткеев, Высоцкий, Шацкая …»
19 сентября В.С.Высоцкий с 17.30 до 18.30 на сцене Телетеатра участвовал в репетиции «Доброго человека из Сезуана»,
а затем впервые вышел на сцену в роли Второго Бога в этом спектакле:
«19.09.64 г. Выездной в Телетеатре. «Добрый человек из Сезуана» Начало 7.05 Конец 10.30 . Состав спектакля: Крамская, Высоцкий, Бреев, Кенигсон и основной»
Следующий документ за 1964 год — копия письма театра в тарификационную комиссию с ходатайством об установлении Высоцкому оклада 85 рублей в месяц:
«Председателю городской
тарификационной комиссии
тов. Ушакову К.А.
Дирекция и общественные организации театра драмы и комедии ходатайствует об установлении оклада 85 рублей в месяц артисту театра Высоцкому Владимиру Семеновичу.
Далее следует:
За несколько месяцев работы в нашем театре В.С.Высоцкий сыграл следующие роли:
2-й Бог и муж в спектакле «Добрый человек из Сезуана» Брехта
Драгунский капитан в спектакле «Герой нашего времени» по Лермонтову.
В.Высоцкий обладает хорошими сценическими данными, профессионализмом, музыкальностью. Образы, созданные им, отличаются психологической достоверностью, художественной выразительностью.
В новых работах театра В.Высоцкий репетирует центральные роли.
Директор театра Н.Л.Дупак
Главный режиссер,
заслуженный артист Ю.П.Любимов
Секретарь партбюро А.Н.Колокольников
Председатель месткома Г.Н.Власова
В 1964 году состоялась премьера спектакля «Герой нашего времени».
Есть афиша этого спектакля, посвященного 150-летию М.Ю.Лермонтова. На афише надпись: «Юрию Петровичу Любимову в день премьеры 20/Х-1964. Поздравляем!!!» Среди других автографов — автограф В.С.Высоцкого.
К спектаклю «10 дней, которые потрясли мир» Высоцким были написаны несколько стихов и песен:
«В куски разлетелась корона…» и «Логово контрреволюции».
В 1967 году театр направил письмо председателю Государственной Тарификационной комиссии Н.К.Сапетову с ходатайством об установлении Высоцкому первой категории с окладом 130 рублей в месяц. В письме перечисляются сыгранные к этому времени роли и дана его характеристика как актера.
На имя начальника Управления культуры исполкома Моссовета Б.Е.Родионова театром было направлено письмо от 11 февраля 1967 года с просьбой утвердить состав Худсовета. В него предполагалось включить 25 человек. Среди них — директор театра Н.Л.Дупак (председатель), Ю.П.Любимов — главный режиссер (зам. председателя ), зав. лит. театра Э.П.Левина (секретарь), актеры — Высоцкий В.С., Губенко Н.Н., Демидова А.С., Золотухин В.С., Славина З.А., Смехов В.Б., Власова Г.Н., Хмельницкий Б.А. Поэты, критики, деятели культуры — Аникст А.А., Арбузов А.И., Вознесенский А.А., Евтушенко Е.А., Карякин Ю.Ф., Самойлов Д.С., Эрдман Н.Р.
От 5 апреля 1967 года в РГАЛИ хранится копия выписки из протокола заседания Худ. Совета театра:
Присутствовали: Дупак, Любимов, Марьямов, Логинов, Толстых, Самойлов, Славина, Высоцкий, Золотухин, Глаголин, Власова, Смехов, Карякин.
Слушали: о выдвижении одного из спектаклей театра на фестиваль «Московская театральная весна — 1967».
Постановили: выдвинуть спектакль «Жизнь Галилея» на фестиваль «Московская театральная весна — 1967».
Режиссера спектакля — Ю.П.Любимов
Художника — Э.Стернберг
Артистов — В.Высоцкого, Смехова, В.Золотухина, В.Соболева
Выписка верна: Секретарь Худсовета
театра Э.Левина»
«Московская театральная весна — 1967» не стала для Высоцкого полной победой. Первым дипломом награждается постановщик «Галилея» — Ю.П.Любимов, а вторым — сам спектакль.
17 мая 1967 состоялась премьера спектакля «Послушайте!» по стихам В.В.Маяковского
Высоцкий записывает фрагменты стихов и делает отдельные пометы: «Я», «Все», «Я — всем», «Хмель» (актер Хмельницкий — Б.А.), что свидетельствует о том, что Высоцкий расписывал текст по ролям для облегчения вхождения в роль поэта, которая была, безусловно, сложна.
К спектаклю «Пугачев» В.С.Высоцким были написаны «Куплеты мужиков»:
«Кузьма! Андрей!
А что Максим?
Чего стоймя
Стоим, глядим?
Вопрос не прост,
И не смекнем:
Зачем помост
И что на нем?»
В 1968 году над театром нависла угроза — чиновники из министерства культуры пытались снять главного режиссера Ю.П.Любимова с работы, а сам театр находился под угрозой закрытия. Есть интересный документ — автограф выступления Высоцкого на одном из собраний коллектива театра в защиту своего Мастера. На собрании присутствовали представители Управления культуры. Текст выступления представляет несомненный интерес, поэтому приводится нами полностью:
«Недавно исполнилось 4 года со дня основания нашего театра, нового театра на старом месте, в старом здании, которое в скором времени в связи с реконструкцией будет сломано. Здание, действительно, ветхое, было время, когда зрители ходили в фойе между ведрами и под дождем (зонты и плащи ведь оставляют на вешалке — там, где как раз начинается театр). Нечеловеческими усилиями мы стараемся поддержать это здание, но оно все равно постепенно приходит в негодность и дряхлеет. Совсем иная картина — в коллективе (я имею в виду творческий коллектив).
За 4 года при очень большой нагрузке и при попустительстве
главного режиссера Ю.П.Любимова был создан прекрасный, крепкий, долгоиграющий репертуар и не менее крепкий коллектив. Некоторые, за последнее время происшедшие события доказали, что коллектив сплочен, полностью поддерживает и репертуарную политику театра и все творческие замыслы Любимова (я опять говорю о творческом коллективе). Могу уверенно сказать, что это коллектив единомышленников.
- Все спектакли нашего театра идут не менее 100 раз. Спектакль «Павшие и живые» — о войне за два года прошел больше 200 раз, «10 дней» — о революции больше 200 раз и т.д., и т.д.
Это доказывает жизненность репертуара и театра. У некоторых непосвященных или неверно информированных людей есть мнение, что на наши спектакли ходит фрондирующая молодежь. Это неверно. Имея возможность во многих спектаклях открыто общаться с залом — могу смело сказать, что вижу людей пожилых и даже пенсионного возраста, среди них бывают и старые большевики, и деятели партии и правительства, и высокие гости; и Ульбрихта, и Микояна, и Гэса Холла никак не назовешь фрондирующей молодежью.
Кроме того, целый месяц в нашем театре работали социологи, которые выяснили, что 82 % наших зрителей — люди от 26 до 50 лет, из них 73 % — люди с высшим образованием.
- Театр давал спектакли в фонд мира.
Первым — в фонд Вьетнама, в фонд строительства монумента защитникам Москвы. Я не буду говорить о громадной шефской работе — ее проводят все театры. Но в 50-летний юбилей Великой Октябрьской революции в партийной школе, где учатся представители коммунистических партий многих стран, игрались фрагменты из спектакля «10 дней, которые потрясли мир», поставленный театром. Я нарочно говорю театром, а не Ю.П.Любимовым, потому что это одно и то же и потому что театр на Таганке ассоциируется, прежде всего, с именем Любимова, а не, скажем, зам. директора Улановского. Мы говорим Таганка — подразумеваем — Любимов. Мы говорим Любимов — подразумеваем — Таганка.
Все это я говорил о творческом и общественном лице театра. Хорошо, когда лицо веселое или серьезное, но не хмурое или злобное. Но, к сожалению, все эти четыре года лицо это вынуждено было и хмуриться, и очень часто, перед каждой премьерой, принимать выражение болезненного ожидания, а иногда и отчаяния. Кто теперь может сомневаться в лояльности «10 дней», а ведь и с этим спектаклем были трудности. И каждый раз после нескольких месяцев ( зачеркнуто — «грандиозной») работы, а работают у нас вы знаете как, Любимов не уходит из театра иногда по 16 часов, смотрит почти все спектакли, чтобы держать их в форме, то же можно сказать и об актерах. После спектакля «Пугачев», например, Бояджиев сказал, что он за много времени, наконец, увидел святой актерский пот. Пот и нервы. И вот перед премьерой начинаются только нервы. Кто-то уже информировал наших руководителей, и они или идут с предвзятым отношением, или не идут вовсе. Мнение должно сложиться у людей после творческого акта — просмотра спектакля, а не до. Критике всегда должно предшествовать творчество, а не наоборот…
Это не значит, что театр не прислушивается к мнению других. Очень многие пожелания и выполняются, очень многие полезные советы выслушиваются, но всегда, чем ближе к премьере, тем чаще актеры начинают выяснять — а какое существует мнение. Спектакля еще нет, а мы спрашиваем мнение, потому что оно уже существует это мнение, кто-то позаботился, чтобы оно сложилось. И как часто можно слышать: но ведь «Добрый человек из Сезуана» — прекрасно. А что было вначале с «Добрым человеком»? Вот и все.
Нам очень хочется продолжать работать также, в том же составе, еще лучше. Хочется работать и играть премьеры, так же, как Сезуан, (так в тексте) 10 дней, как весь наш репертуар».
Интересно отметить, что Владимир Семенович в своих текстах (приведенных выше) практически не ставил знаков препинания. В настоящем тексте они все-таки расставлены, остальной текст оставлен без изменений.
Кроме неприятностей у театра, в этот период были они и у Высоцкого лично: его несколько раз в период 1968/69 гг. увольняли из театра «за нарушение трудовой дисциплины». Первый раз это случилось в марте 1968 года, о чем свидетельствует следующий документ:
ПРИКАЗ
по Московскому театру
драмы и комедии
21 марта 1968 г.
20 марта с.г. артист Высоцкий В.С. явился на репетицию спектакля «Живой» в нетрезвом виде и был удален с репетиции главным режиссером театра Ю.П.Любимовым. На спектакль «10 дней, которые потрясли мир» он допущен не был.
5 февраля с.г. за подобное вопиющее нарушение трудовой дисциплины артисту Высоцкому В.С. был объявлен строгий выговор и снижен оклад до 100 рублей в месяц сроком на 2 месяца.
Театр принимал все меры для того, чтобы лечить Высоцкого, всегда шел ему навстречу. К великому сожалению, Высоцкий не оправдал надежд коллектива театра.
За вопиющее нарушение трудовой дисциплины, за систематическое пьянство освободить артиста Высоцкого В.С. от работы в театре по ст.47 «Г», КЗОТ с 20 марта 1968 г. Бухгалтерии театра удержать с артиста Высоцкого В.С. все расходы, связанные с поездкой за артистом Губенко.
Основание: докладная записка зав. тр. Власовой Г.Н.
Директор театра Н.Дупак
Через несколько дней Высоцким было написано заявление, автограф которого сохранился:
В партийную организацию,
в местный комитет театра на
Таганке от актера Высоцкого В.С.
Заявление
Считаю себя виновным в том, что поставил театр в трудное положение, виновен перед коллективом. Сейчас я принял меры (медицинские), чтобы впредь обезопасить театр и себя от повторения подобных выходок.
Прошу вернуть меня в театр, работой своей постараюсь исправить положение и принести пользу театру. (подпись)
8 апреля 1968 г. состоялось заседание месткома по разбору заявления Высоцкого. В местном комитете есть копия протокола.
20 марта с.г. артист Высоцкий был освобожден от работы в театре по ст. 47 пункт «Г» за систематическое пьянство.
Своим недостойным поведением артист Высоцкий В.С. нанес колоссальный ущерб театру: отмена спектаклей, срочные вводы, нарушение всех часовых норм у артистов, материальные затраты.
Однако, принимая во внимание заявление артиста Высоцкого В.С. … руководство театра сочло возможным принять артиста Высоцкого В.С. на работу временно-условно на договор с окладом 100 рублей в месяц с 9 апреля с.г.
2
Вывести артиста Высоцкого В.С. из состава Художественного Совета театра.
3
Снять артиста Высоцкого В.С. с роли Мотякова в спектакле «Живой»…
Назначить на роль Галилея в спектакле «Жизнь Галилея» артиста Губенко Н.Н. …
Назначить на роль Хлопуши в спектакле «Пугачев» артиста Насонова В.Н. и Голдаева Б.В.
Назначить артиста Шаповалова В.В. на роль Маяковского в спектакле «Послушайте!»
Основание: докладная записка зав. труппой Власовой Г.Н. и протокол заседания месткома театра от 8.IV.68.
Директор театра Н.Дупак
Несмотря на то, что согласно предыдущему приказу на роль Хлопуши были назначены вторые исполнители, Высоцкий В.С. в это время продолжал играть эту роль один. (Позже появятся другие исполнители: Насонов, Галкин). Вот на эту тему любопытный автограф:
Директору театра на Таганке Дупаку Н.Л.
Заявление
Я считаю, что сегодняшнее мое выступление на сцене в роли Хлопуши — просто издевательство над моими товарищами и над зрителем. Ничего, кроме удивления и досады, моя игра не может вызвать. Я нахожусь в совершенно нерабочем состоянии. У меня нет голоса. Я прошу принять срочные меры по вводу новых артистов на роли, которые играем я и Губенко. В противном случае наступит момент, когда мы поставим театр в очень трудное положение.
6 ноября 1968 г. (подпись)
Уже в декабре 1968 г. В.С.Высоцкий снова увольняется из театра, о чем свидетельствует следующий документ:
Приказ N 183
по Московскому театру драмы и комедии
14 декабря 1968 г.
Артист Высоцкий В.С., начиная с 17 октября с.г. систематически нарушал трудовую дисциплину: не являлся на спектакли, приходил в театр в нерабочем и нетрезвом состоянии, что вынуждало руководство театра к срочным заменам его в спектаклях, и заменам спектакля «Жизнь Галилея», где В.С.Высоцкий является единственным в театре исполнителем заглавной роли и, кажется, должен был бы чувствовать особую ответственность в эти дни не только перед руководством театра, но и перед зрителем.
Все вышеприведенное, грубейшие нарушения трудовой дисциплины и систематическое пьянство В.С.Высоцкого вынудили дирекцию театра освободить артиста Высоцкого В.С. от работы в театре по статье 47 КЗОТ пункт «Г», со 2 декабря с. г.
10 декабря с. г. артист В.С.Высоцкий обратился в партком, местный комитет и к Художественному Совету театра со следующим письмом:
Если бы Высоцкий положил ниже приводимое письмо на музыку, то могла бы получиться уникальная «Исповедь хулигана»:
«Товарищи из месткома, парткома и Художественного Совета! Я обращаюсь к вам, потому что вы только можете решить, быть мне в театре или не быть.
Все мое пребывание в театре, если исключить несколько сыгранных мною ролей, можно представить, как целую вереницу выговоров нервов, разговоров, увещеваний. Были и благодарности, но гораздо меньше и реже.
Мне не хотелось бы в этом письме перечислять все мои нарушения или заслуги за эти несколько лет.
Сегодня я серьезно задумался о том, какой вред приносили мои «вывихи» театру, какое значение имели они для всего нашего молодого коллектива.
Совершенно отчетливо сознаю теперь, что ТАК работать в искусстве нельзя, невозможно. Театр можно строить только полностью вкладывая все свои силы, уменье, способности. За последнее время у нас участились случаи потребительского отношения к театру, непрофессионального поведения со стороны многих актеров. И в этом я усматриваю часть своей вины.
Я, как ведущий актер театра, не имел права подавать дурной пример и позволять более молодым актерам делать неверные выводы из моих поступков.
В театре время от времени случаются приходы в театр в нерабочем состоянии. Вероятно, и здесь не обошлось без оглядки на меня.
Много нарушений можно еще здесь привести и во всем, я думаю, можно найти долю моего дурного влияния. Дурные примеры заразительны, добрые тоже, но меньше. Но… в то же время дурное забывается, а хорошее помнится долго.
Я прошу вас попытаться забыть дурное и не забывать хорошего.
Сам, я надеюсь, не подам больше повода для подражания моим «выходкам». Мне кажется, я могу принести пользу театру и сделаю все возможное, чтобы принести ее как можно больше.
Разберитесь внимательно в этом письме. Время от времени каждый человек должен подводить итоги. Я подвел их и на этот раз увидел позади очень много черной краски. Теперь нужно высветлять. Я чувствую, я знаю, что у меня есть силы для этого».
Дирекция, партийное бюро, местный комитет и Художественный Совет театра собрались специально по разбору поведения артиста В.С.Высоцкого 13 декабря с.г. Ниже приводится выписка из протокола заседания:
Выписка из протокола совместного заседания
Художественного Совета, партийного бюро,
бюро ВЛКСМ и местного комитета театра
от 13 декабря 1968 г.
СЛУШАЛИ: вопрос о пребывании в труппе артиста В.С.Высоцкого
ПОСТАНОВИЛИ: Художественный Совет, партбюро, бюро ВЛКСМ и местный комитет театра считает правильным решение руководства театра об освобождении артиста В.С.Высоцкого от работы в театре за грубейшие нарушения трудовой дисциплины, за систематическое пьянство по ст. 47 КЗОТ пункт «Г».
Однако, принимая во внимание письмо артиста В.С.Высоцкого с просьбой помочь ему искупить свою вину перед театром, Художественный Совет, партбюро, бюро ВЛКСМ и местный комитет сочли возможным оставить артиста В.С.Высоцкого в труппе театра временно с испытательным сроком до конца сезона.
Приказываю:
Учитывая ходатайство Художественного Совета, партбюро, бюро ВЛКСМ и местного комитета, оставить на работе артиста В.С.Высоцкого и с 15 декабря с.г. числить его на временной работе по договору до конца сезона с окладом 100 рублей в месяц.
Директор театра Н.Дупак
В.С.Высоцкий с декабря 1968 г. недолго проработал в театре. Следующее увольнение приходится на март 1969 г., о чем свидетельствует следующий документ:
Приказ N 36а
по Московскому театру драмы и комедии
25 марта 1969 г.
В связи с тем, что сегодня — 25 марта с.г. артист Высоцкий В.С. явился на спектакль «Жизнь Галилея» в нетрезвом виде — спектакль отменить и перенести его на 1 апреля с.г., который считать рабочим днем.
Предложить тов. Высоцкому В.С. возместить материальный ущерб за отмененный спектакль.
Основание: докладная записка зав.труппой Власовой Г.Н., акт от 25.Ш.69
Директор театра Н.Дупак
26 марта состоялось заседание месткома по обсуждению появления Высоцкого в театре в нетрезвом виде и отмены спектакля.
«Выписка из протокола заседания местного комитета театра 26-го марта 1969 г.
Присутствуют: Г.Власова, В.Насонов, З.Ходжи-Оглы, И.Ростовцева, З.Дмитриева, М.Полицеймако, В.Радунская.
Слушали: об отмене спектакля «Жизнь Галилея» 25-го марта 1969 г. в связи с явкой на спектакль артиста Высоцкого В.С. в нетрезвом состоянии.
Решение месткома:
- За появление в нетрезвом виде на спектакле «Жизнь Галилея» 25 марта и срыв спектакля — артиста В.С.Высоцкого просить дирекцию уволить.
- По прохождении лечения и представления врачебного заключения о его излечении — просить руководство и дирекцию театра дать возможность вернутся артисту Высоцкому В.С. в театр.
Местный комитет театра предлагает артисту Высоцкому В.С. лечь в больницу в течение 2-х дней и находится там до полного излечения при обязательном контроле членов коллектива – тогда местный комитет будет просить руководство и дирекцию найти возможность его не увольнять. Проголосовали единогласно.
Председатель МК Г.Власова
1969 г. 26-го марта
Есть копия акта о необходимости взыскать с В.С.Высоцкого неустойку в сумме 852 р. за срыв спектакля «Жизнь Галилея»:
АКТ
г.Москва » » 1969 г.
Мы, нижеподписавшиеся, режиссер тов. Глаголин Б.А., пом.гл. режиссера политчасти тов. Левина Э.П., зав труппой тов. Власова Г.Н., составили настоящий акт в том, что 25 марта с.г. артист Высоцкий В.С. явился на спектакль «Жизнь Галилея» в нетрезвом виде, и бюллетень предъявлен не был … Выпустить на сцену артиста в таком состоянии было невозможно, да и сам он заявил, что играть не сможет.
Спектакль был отменен. Зрителям были возвращены деньги за билеты в сумме 852 руб.
Необходимо с артиста Высоцкого В.С. взыскать неустойку в сумме 852 руб. За срыв спектакля, о чем и составлен настоящий акт.
Подписи: Б.А.Глаголин
Э.П.Левина
Г.Н.Власова
Приказ N 38
по Московскому театру драмы и комедии
27 марта 1969 г.
25 марта с.г. артист Высоцкий В.С. явился на спектакль «Жизнь Галилея» в нетрезвом состоянии в связи с чем был отменен спектакль.
За систематическое нарушение трудовой дисциплины артиста Высоцкого В.С. с 25 марта с.г. от работы в театре освободить по ст.47 «Г» КЗОТ.
Основание: докладная записка зав.труппой Власовой Г.Н. с резолюцией гл.режиссера театра т.Любимова Ю.П., акт от 25.III.69 г. и решение местного комитета.
Директор театра Н.Дупак
В.С.Высоцкий был возвращен в театр в мае 1969 г.:
Приказ N 63
по Московскому театру драмы и комедии
8 мая 1969 г.
1
Принимая во внимание письмо артиста Высоцкого В.С. на имя руководства театра, в котором он признает свою вину и решение местного комитета театра с просьбой об оставлении Высоцкого В.С. в театре — дирекция, в порядке исключения считает возможным изменить приказ N 38 от 27 марта с.г.(которым Высоцкий В.С. освобожден от работы по ст.47 «Г» КЗОТ) и за грубейшие нарушения трудовой дисциплины, имевшей место 25 марта с.г. артисту Высоцкому В.С. объявить строгий выговор, предупредив его, что в случае малейшего нарушения им трудовой дисциплины он будет уволен из театра.
2
Артиста Высоцкого В.С. считать приступившим к работе с 9 мая с.г.
Основание: письмо Высоцкого В.С. и решение местного комитета.
Директор театра Н.Л.Дупак
В 1969 г. Высоцкий В.С. дебютировал в главной мужской роли спектакля «Добрый человек из Сезуана» — летчика Янг Суна:
Приказ N 79
по Московскому театру драмы и комедии
9 июля 1969 г.
Назначить вторых исполнителей в спектакли текущего репертуара:
«Добрый человек из Сезуана» на роль Летчика — В.Высоцкого. Работу сдать к 24 июня с.г.
Есть еще один уникальный документ: программа спектакля «Мать» (1969), где рядом с персонажем Михаила Власова впечатана фамилия Высоцкого. Правда, играл в этот день другой исполнитель — Ф.Антипов. Но важно отметить тот факт, что Высоцкий всего один или два раза сыграл эту роль, состоявшую, кстати, из, буквально, двух-трех фраз.
В 1969 г. театру на Таганке исполнилось 5 лет. В.С.Высоцкий на юбилее не присутствовал, поскольку в это время в театре не работал, но написал стихи, посвященные пятилетнему юбилею:
Даешь пять лет! Ну да! Короткий срок!
Попробуйте, допрыгайте до МХАТА! —
Он просидел все семьдесят — он смог,
Но нам и пять — торжественная дата.
В этом калейдоскопе критики и неприятностей, есть и светлые пятна о Владимире Семеновиче.
Высоцкий красив и не слащав!
Вот рукописный набросок критика А. Дымшица к рецензии на спектакль «Гамлет»:
«20.XII.71. Ю.Любимов — все психологические линии ясны предельно. Триумф — полная ясность линии Офелии (Н.Сайко). Ансамбль — все играют, ни одной проходной роли —
Гертруд (А.Демидова) до Озрика (С.Холмогорова)
Полоний (Л.Штейнрайх) до призрака отца Гамлета (А.Пороховщиков)
Внимание на всех актерах — каждый или характер, или характерен. И Розенкранц (И.Дыховичный), и Гильденстерн (А.Вилькин) и оба могильщика (Ф.Антипов и Р.Джабраилов).
Великолепно сделано с антрактом — сцена обрывается (Гамлет и Королева) и вновь новая сцена начинается фразой, на которой оборвалось действие.
Иллюзия шекспировского театра, без пауз …
Все «красивые» Гамлеты — Бруно Фрейндлих (как А.Блок), Самойлов, Козаков, Хорст Каспдл, фото В.Качалова. По контрасту (нарочито) — Горюнов в постановке Н.Акимова.
Синтез Высоцкий — красив, не слащаво, а красотой мыслящего, борющегося Человека.
Где виттенбергский студент? (не в манерах, в мысли). Сравни — Белинский, см. Гордона Крэга и у Станиславского. Почти аскетическое оформление сцены — художником Д.Боровским. Отличное музыкальное оформление — Ю.Буцко».
Есть еще один документ: машинопись шекспировского текста исписана Высоцким изрядно, что еще раз доказывает тот факт, что он очень серьезно относился к роли и разбирал буквально каждую строку, записывая на полях даже свои мысли: «Я не могу понять! Ужасно!»
В фондах ГКЦМ В.С.Высоцкого хранится еще один интересный документ: программа спектакля «Гамлет», где напротив роли Гамлета впечатаны два исполнителя — В.Высоцкий и В.Золотухин. Как известно, Золотухина пытались ввести на эту роль в апреле 70-х гг., но он так и не сыграл ее, чем и уникален этот документ. Кроме того, в книге поступлений (КП) за N 978, с. 1 хранится оригинал билета на несостоявшийся 27 июля 1980 г. спектакль «Гамлет» (ряд 11, место 24, N 000213 цена 1 руб 80 коп с контролем).
В фонде «В.С.Высоцкий» хранится рукописный набросок актера к роли Гамлета:
«Призрак — король датский — тот же Клавдий, так он жесток.
Для Гамлета — это не благородный человек, но у него обостренное чувство несправедливости, чувствует что-то неверно. Гамлет сам его сын — и у него есть и то, и то (и от отца и от себя… (университет)). Призрак должен быть в Гамлете. Это может быть не реальный призрак (В Гамлете двое: один говорит — мсти, другой видит, что это бесполезно). Клавдий говорит с ним очень откровенно (у твоего отца тоже умер отец) и т.д.
(попробовать призраку играть Гамлета)
Гамлет знает, что отец не прав, он студент с новыми идеями, но он действует так, как бы делал его отец и он тоже играет: на наш замысел о сходящем с ума человеке, о человеке, у которого уходит из-под ног земля. Это можно сделать чисто зрительно, пластически в начале спектакля — земля уходит, а он продолжает стоять и тогда первая встреча с призраком».
В 1976 году в театре на Таганке проходила очередная тарификация артистов.
Список актеров, представленных на тарификацию
по решению Худсовета Московского театра Драмы
и комедии на Таганке от 4/ХП-1976 г.
ФИО — 5. Высоцкий Владимир Семенович
Оклад — 150
Категория — высш.
Дата тарификации — 1972
Присвоенный оклад — 200
Категория – высш.
Список ролей, сыгранных за время с последней тарификации: 1. Гамлет – «Гамлет», 2. Солдат — «Пристегните ремни» 3. Лопахин — «Вишневый сад».
Выписка из протокола заседания
Художественного Совета
Московского театра Драмы и Комедии
на Таганке от 4/ХП-1976 г.
(оригинал)
Присутствовали: тт. Дупак Н.Л., Любимов Ю.П., Власова Г.Н., Глаголин Б.А., Левина Э.П., Беляев Ю.В., Яциневичене Н.Е., Славина З.А., Демидова А.С., Вилькин А.И., Хмельницкий Б.А., Смехов В.Б., Золотухин В.С., Филатов Л.А., Левинсон Н.Б., Карякин Ю.Ф.
Слушали: о тарификации артиста Высоцкого В.С.
Постановили: в связи с творческим ростом артиста Высоцкого В.С. Худсовет театра единодушно ходатайствует перед Государственной тарификационной комиссией об установлении артисту Высоцкому В.С. высшей категории с окладом 200 рублей
Выписка верна:
Ответственный секретарь Худсовета (подпись)Э.Левина
Х а р а к т е р и с т и к а
Высоцкого Владимира Семеновича
N 656
10.XII.76 (оригинал)
Тов. Высоцкий В.С. 1936 г. рождения, русский, беспартийный, образование высшее, окончил школу-студию МХАТ СССР им. Немировича-Данченко в 1960 г. и был принят в труппу Московского театра им. Пушкина. С 1961 по 1964 гг. работал на киностудиях страны, сыграв роли в к/ф «Карьера Димы Горина», «Увольнение на берег», «Штрафной удар» и др.
В 1964 г. В.С.Высоцкий был принят в труппу Московского театра Драмы и Комедии на Таганке. За время работы стал ведущим актером театра, сыграв центральные роли в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Герой нашего времени», «Антимиры», «10 дней, которые потрясли мир», «Павшие и живые», «Жизнь Галилея», «Пугачев», «Послушайте!», «Гамлет», «Пристегните ремни», «Вишневый сад» и др.
Участие В.С.Высоцкого в этих спектаклях во многом определило их высокий идейно-художественный уровень. В.С.Высоцкий — актер, обладающий яркой индивидуальностью, высоким профессионализмом, владеющий средствами внешнего и внутреннего перевоплощения. За исполнение роли Галилея в спектакле «Жизнь Галилея» В.С.Высоцкий был удостоен Диплома I степени на фестивале «Московская театральная весна — 1969», в 1976 г. на фестивале БИТЕФ был удостоен гран-при спектакль «Гамлет» с В.С.Высоцким в заглавной роли. Работы В.С.Высоцкого высоко оценены печатью и театральной общественностью.
В.С.Высоцкий является автором ряда песен к спектаклям театра, а также к кинофильмам. Помимо большой работы в театре, снимается в кино, ведет концертную деятельность, выпустил несколько грампластинок в фирме «Мелодия».
Принимает активное участие в шефской работе театра. Участвует в общественной жизни, пользуется уважением и авторитетом в коллективе.
Директор театра Н.Л.Дупак
Гл. режиссер Ю.П.Любимов
Секр.партбюро Б.А.Глаголин
Председатель месткома Ю.В.Беляев
* * *
Последний документ, о присвоении высшей актерской тарификации, возможно, один из светлых эпизодов в жизни Высоцкого. Надо сказать, что эти документы мало кому известны, и приводятся неслучайно.
(Спасибо Леониду Павлову, собравшему этот материал).
В перечисленных приказах и решениях – огромное драматическое содержание. От документа к документу видишь извилистый и унизительный путь одного из выдающихся людей нашей эпохи. А вот кто в этом случае прав – театр, похожий на «меджлис татарских мурз» и требующий своей «дани» или Высоцкий, почему-то делающий все не так, и сегодня нелегко разобраться.
Ясно одно, в этой театральной летописи «по нотам» запротоколирована «страдательная парадигма» так присущая многим талантливым личностям, прокладывающим себе дорогу от наваждения к триумфу. И это неслучайно: гений — это не только долгое терпение, но это и преднамеренные ошибки. Чтение этих документов поучительно еще и по другой причине, они показывают творческий и производственный инструментарий, от которого не был защищен в театре на Таганке не только Высоцкий, но, пожалуй, каждый из этого коллектива. В будущем по совокупности конфликтов и возросшего противостояния, это обернулось горечью раскола.
Вместе с тем, нельзя не согласиться с Любимовым, что Высоцкому театр дал огромные возможности для становления своего уникального дара. Любая его песня, исполнявшаяся в спектаклях на Таганке, становилась победой, которая перекрывала официальное замалчивание, преследование разного рода «охранительными инстанциями», сопровождавшие Высоцкого всю его короткую жизнь.
Итак, мы возвращаемся к тому злополучному собранию, когда
Высоцкий после замечания Любимова о своих песнях, ушел!
— Вот вам, пожалуйста, — закричал вслед Любимов, — «ушел, и говорить не пожелал».
— Пусть все запомнят: и не с такими господами театр расставался.
И вдруг, в поле его зрения попал артист Владимир Насонов
— И Насонова я предупреждаю! Если на вас поступят сведения, что вы пьянствуете в гримерках, я вас уволю.
Насонов в это время был в завязке, сыграл второй раз, вместо отсутствующего Высоцкого, Хлопушу и нервный выпад режиссера в его случае был абсолютно несправедливым. Но Насонов не сдержался. И тоже вышел.
— Прекратите демонстрацию, Насонов, «то, что положено Юпитеру – не положено быку». После собрания Самойлов нашел Высоцкого в гримерке. На нем не была лица. Самойлов никогда не видел на его глазах слез. А жаловался он и вообще редко. Но выпад о написанных «приличных двух-трех песнях» его возмутил и странно обидел. Высоцкий полосовал воздух рукой и все повторял:
— Как не стыдно! Растоптать, самое важное, самое дорогое… Сам ведь пишет…Графоман несчастный… Не две-три песни, а шестьсот! А у тебя пять стихотворений, и все мимо рифмы и размера.
В таком состоянии Самойлов никогда Высоцкого больше не видел, но этот день запомнил на всю жизнь. Это было частью того наваждения, которое исподволь вселялось в театр. Конечно, Любимов понимал значение Высоцкого. Однако положение руководителя театра, воспитателя труппы, которую он привел с собой, нередко заставляло поступать вопреки сердцу — жестко, а иногда и жестоко. Актеру ведь не много надо, чуть больше справедливости, подлинного, а не показного внимания, больше этого самого сердца, а не постоянной муштры и упоминаний: «Вы забыли, с кем вы работаете!». Но не каждому режиссеру это дано. Любимов относился к актерам как к инструменту и эти «отмычки» в будущем, когда рука мастера «ослабела», ему за все воздали. Конечно, это трагическая ошибка! Это состояние «Калифа на час». Но у этого мотива всегда долгая история. И не у одного Юрия Петровича. Стоит вспомнить раздел МХАТа, конфликты в Большом, во многих других театрах.… А начинается подобное с мелочей: одному режиссер непреднамеренно нагрубит, другого унизит, третьего незаслуженно выгонит, четвертый, при удобном случае, подставит театр и убежит за границу, пятый годами ждет роль и не может реализоваться — все это, к сожалению, никуда не уходит, не забывается, оставляет шлейф. Это те «дрожжи на слезах», бродящие подспудно в ожидании сатисфакции, которые в один прекрасный момент «выплакиваются» наружу и в гневе сносят и театр, и судьбы актеров.
Даже «непогрешимые» не застрахованы от этого. Недаром сказано — «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Но Любимов отличался от других тем, что умел, хоть и с опозданием, воздать должное своим актерам. Многих он лаконично, но положительно упоминает в своей книге. Восторженно говорит и о Высоцком: «Думаю, что Владимир Высоцкий мог родиться и встать на ноги только в этом театре. Он бы так не развился. Ну конечно это от Бога и от мамы с папой – такой талант, хотя то, что от мамы с папой не совсем правдоподобно: Володин папа на его поминках историческую фразу сказал: «Видимо, в Володе что-то было: его сам Кобзон любил». На этих же поминках, к сожалению, Юрий Петрович, запомнил именно эту деталь, за то много позже в полной мере воздал Высоцкому: «Почему такая феноменальная любовь и популярность? Мне понятно почему. Потому что он пел про то, о чем официальная поэзия не смела петь. Он открыл на обозрение своим соотечественникам целый пласт, как плуг землю вспахивает, он распахал и показал, все равно, как Гоголь про Пушкина сказал: «зарифмовал всю Россию». У него же неисчислимое количество тем, он пел про все, про все боли, про все радости, он смеялся над глупостью, он был неукротим и гневен по поводу безобразий, которые творятся. И он так сумел подслушать народные выражения, слова. У него прекрасный народный язык, удивительный. И поэтому Москва его так хоронила как национального героя».
Но тогда — на собрании — этому был свидетель ни один Самойлов, а большая часть труппы, прозвучало: «Написали две-три приличные песни и думаете, что вам все позволено?» Кто-то сказал, что «презрение – это пощечина на расстоянии». Этих пощечин Любимов раздавал немереное количество. В памяти его конфликт с Анатолием Эфросом во время сдачи «Вишневого сада», когда Любимов учил Анатолия Васильевича, как «дожимать мизансцены», если посередине сцены есть надгробие. Этот конфликт происходил на глазах всей труппы. Впервые Самойлов увидел Любимова в роли одного из героев «Болдинской осени».
В отповеди Любимова Эфросу были нотки из «Моцарта и Сальери». Любимов тыкал руками в макет и учил бледного, обескураженного Эфроса как Сальери. Он то и дело повторял: «Надо видеть возможности вашего оформления, почему вы не используете «крупные планы» при построении мизансцен». Актерам, присутствующим при этой ссоре, Любимов впервые показался назойливым Сальери с его кредо: «Музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию». (В поздние годы своего творчества уверенность в «универсальности» своего метода, не стала ли «ахиллесовой пятой» великого режиссера?)
А ведь именно Эфрос сделал с Любимовым, может быть, лучшую актерскую работу, Мольера в телевизионном спектакле. С Эфросом они так и не помирились. Не стало ли это поводом согласиться Анатолию Васильевичу придти на смену Любимову в театр на Таганке? При духовном складе Эфроса, поступок дерзкий и неэтичный. Впрочем, здесь неуместны догадки. Любимов и Эфрос походили, на теперь уже не встречающуюся породу горных театральных орлов. Наблюдая их в ссоре, когда тот и другой отворачивались друг от друга, они, как нестранно, напоминали герб Российской империи. Один тянул на Восток, к византийскому психологизму, другой – на Запад, к постановочным аллегориям.
Большинство актеров выдерживали Любимова, потому что его любили. Но некоторые ломались, уходили. Ушел в ТЮЗ хороший характерный актер Фоменко, ушел Калягин, ушел Борис Галкин и Рафаэль Клейнер, ушли многие.… В том числе и гениальный художник – постановщик, соавтор с режиссером Любимовым славы театра на Таганке, Давид Боровский! Свидетели рассказывают, что на очередной сдаче макета, с замечаниями выступила «женское руководство» театра на Таганке и этого Давид Боровский не выдержал. Взял макет и вышел из кабинета. Этот уход совпал с неожиданным ремонтом его кабинета и стал поводом окончательного ухода из театра Великого Маэстро.
Последний «развод» так и хочется назвать «легальной альтернативой убийству».
Уход Н.Дупака – это отдельная эпопея. Его, то меняли на Илью Когана из театра «На Малой Бронной», потом возвращали обоих на прежнее место, а в конце, после почти двадцатилетнего служения, унижений и недоверия, «ушли» по принципу: «людей следует принимать небольшими дозами».
Вскоре из театра ушел и Володя Насонов, близкий друг Самойлова. Еще позже, после развода с Алисой Черновой, он уехал на родину, в Челябинск и там утонул при странных обстоятельствах. Чуть раньше, опять-таки при невыясненных обстоятельствах, повесилась одна из основательниц театра на Таганки Людмила Возиян, игравшая старушку в основном составе «Доброго человека из Сезуана».
Все эти разные, не связанные с собой «случайности», оседали в памяти, подспудно «бродили» и в тех драматических ситуациях, которые могут быть не опасны в любом другом коллективе, в этом театре, избалованном признанием и завышенными амбициями актеров, «выстреливали» смертельно, разрушая тот фундамент, который вначале распался на две части, а в будущем стал разрушать и, увы, разрушил главное – ЛЕГЕНДУ.
И сколько не задавай себе вопрос, кто виноват, какие бы мудрецы не исследовали бы химию предательства, ответ будет разным: в одном случае предатели будут клеймить перевертышей, в другом — предавший никогда не простит нам своей измены, а в конечном результате, как сказал Плутарх: «Первыми предатели продают себя самих». Удивительно другое, еще на заре театра на Таганке, в спектакле «Под кожей стати Свободы» звучал эпиграф Джона Дона предварившего роман Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол».
Нет человека, который был бы как Остров,
сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши;
и если Волной снесет в море береговой Утес,
меньше станет Европа,
и также если смоет край Мыса и разрушит
Замок твой и Друга твоего;
смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством,
а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол;
он звонит и по Тебе.
Нет человека, который был бы как Остров,
сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши;
и если Волной снесет в море береговой Утес,
меньше станет Европа,
и также если смоет край Мыса и разрушит
Замок твой и Друга твоего;
смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством,
а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол;
он звонит и по Тебе.
В этих словах есть желанный ответ, который еще в «театральном детстве» можно было всем вместе усвоить.
В те годы большинство в театре понимали важность этих слов, каждый любил повторять их наизусть, позже — не только забыли, но исключили для применения. Вот и получается: «какая наука самая необходимая?» — «Наука забывать ненужное».
На следующий день после скандала возобновились репетиции «Гамлета». Репетировали так, как будто ничего не было в помине. Наконец добрались и до сцены похорон Офелии. Репетировал Самойлов. Золотухин незаметно «растворился». Он бывал на репетициях, мелькал перед глазами Любимова, но инициативы не проявлял. Это была его коронка – присутствовать и не мешать, выживать и быть нужным. Но обязательно, несмотря, ни на какие неудачи, упорно идти вперед. У него был талант крестьянина, который не мог представить себе в театре «царство Божие» — без того, чтобы у него не была лучшая «телка», служившая обрамлением к его лицу, испещренному компромиссами, и самое надежное положение. Людей более способных он обходил усердием, много снимался в кино, правда после Бумбараша не всегда успешно и, в итоге стал в театре Главным, «волком в законе» — мудрым и влиятельным. В конце своей блестящей карьеры, он превратился в самого крупного актера театра на Таганке, а, построив на своей малой родине церковь, ушел из жизни Мастером, повторить которого еще долго никому не удастся.
Похороны Офелии оказались тоже в ряду таганских наваждений. Если смотреть из зала, то гроб Офелии в «Гамлете» выносили слева. Справа стоял, готовясь выбежать на «истерику» Лаэрта Высоцкий. В ногах у гроба были Клавдий и Лаэрт. За королем — Смеховым шла королева — Демидова, актриса исключительного дара. Эта театральная работа одна из лучших её работ в театре. Итак, началась музыкальная тема композитора Юрия Буцко, похоронная процессия двинулась вперед и вдруг алюминиевый круг, державший под куполом сцены занавес- главную метафору спектакля, символизирующую рок и судьбу, валится левой частью в сторону актеров несущих гроб, а потом срывается в другую сторону и со страшным грохотом плашмя падает на сцену. Наступила бездыханная тишина. И в этой гробовой тишине раздается голос Любимова:
— Кого убило?
Вопрос из театра абсурда. Но — характерный для Любимова. Позже, аналогичная ситуация произошла в спектакле «Товарищ, верь». Стрелок из лука — мастер спорта, целившийся в белый лист в руках Пушкина, угодил исполнителю этой роли Джабраилову стрелой в мякоть между пальцами. Самойлов играл Николая Первого и стоял рядом. В него не попали, но с ним был шок. Каково же было Рамсу — замечательному актеру, по-товарищески так прозванному в коллективе?
И как же дальше поступил Любимов? Объявил перерыв, актера перевязали, стрелка в дальнейшем «уволили», а прогон через полчаса продолжили. Позже эту «жестокость» Любимов объяснил так:
— Публика не виновата, что мы допускаем грубые ошибки. Актер может не придти на спектакль только мертвый.
Кажется, к непреложной квартальной премии Рамзесу что-то перепало дополнительно.
Во время инцидента в спектакле «Гамлет» вопрос «Кого убило?» был к тому же из разряда юмористических. Поди, подсчитай и сразу ответь, кто жив под занавесом, который практически накрыл весь планшет сцены. Первым из-под него выбрался артист Семенов. В театре у него была кличка «винт»; на самом деле он был Виктором Семеновым. Он был вгиковцем, хорошим острохарактерным актером, позже ставшим завтруппой.
— Винт, ты жив? – с удивлением спросил Любимов. – А остальные?
Самойлову железяка ободрала левую руку, правая – уцелела, гроб прикрыл. Гроб, кстати, выдержал. Офелии там не было. Потом по поводу Наташи Сайко кто-то пошутил:
— То нашу Офелию хоронят, то конструкции на нее падают, а ей хоть бы хны, она «утонула» и в это время в кино снимается.
Повезло в этот день и Высоцкому. Если бы он свой выход не задержал на несколько секунд, железный круг накрыл бы его с головой. Володя тотчас сел в машину и, не говоря ни с кем, уехал с репетиции. К счастью, это наваждение оказалось, не столь трагическим. Жертв в этот день не было.
На этом репетиция закончилась. Всем пострадавшим сделали перевязку. Самойлову перевязали левую руку.
Королев и актер Рыжий пригласили его в общежитие. По дороге на «Чкалова 28» купили водки, чтобы отпраздновать второе рождение.
Общежитие оказалось в образцовом порядке. Валентин Рыжий сразу предупредил: —
— Внимание, господа, сегодня дежурит Зойка Пыльнова, не вздумайте разбрасывать окурки. Она таких п…. даст, что мало не покажется. Зоя была поющей, пластичной актрисой, небольшого роста и доброго характера, но за порядок в общежитии билась, как Жанна де Арк. У нее было какое-то неустроенное прошлое, она не боялась делиться этим. Но вскоре она вышла замуж за известного актера из хорошей актерской семьи. Позже стала человеком воцерковленным и вполне нашла себя в этой земной юдоли.
Узнав, что случилось в театре на репетиции и, увидев живого Самойлова, она, прежде всего, посмотрела, хорошo ли сделана повязка, и тотчас предложила ребятам что-нибудь приготовить на закуску. Вскоре в квартире запахло жареной картошкой, Зоя подбросила солений и котлет, купленных в ближайшей кулинарии. Водки оказалось мало. Сбегали вниз и добавили. Неожиданно в гости к соседке Пыльновой – временно проживающей в ее комнате, приехали подруги. Одна была из тех, кого отмечал Самойлов — высокая, с короткой прической и ладной фигурой. Звали её Кармен. Мама у неё, как потом выяснилось, была певицей в хоре Большого театра, участвовала в одноименном спектакле и поэтому назвала дочь в честь героини Проспера Мериме и оперы Бизе. Кармен оказалась студенткой Медицинского института. Узнав из разговора, что случилось в театре и что комната у входа никем не занята, она потребовала, чтобы Виктор, прошел за ней следом, посадила его на постель и заявила:
— Рука плохо забинтована. Посмотрите, у вас концы пальцев синие. Надо перебинтовать. Сидите здесь. Пить вам больше нельзя, шок этим не снимается. Внизу есть аптека – я мигом. Через пять минут она принесла какие-то склянки с «перекисью водорода», «люголя с раствором глицерина», вату и бинт. Она заново и очень ловко перевязала руку, а потом потребовала, чтобы Самойлов открыл рот.
— Зачем? – удивился Самойлов.
— Мне не нравится, как у тебя звучит голос. У тебя от перегрузки видимо, на репетициях — не смыкание и остаточные явления после ангины. Она достала из красной коробочки для макияжа пилку для ногтей, накрутила на нее вату и быстро смазала горло люголем. Самойлов от такого внедрения в личную жизнь буквально ошалел. Он стал отхаркиваться, но Кармен помешала. Она зажала ему рот и вдруг впилась в его губы. Поцелуй оказался долгим и впечатляющим.
— А теперь будем снимать шок, — заявила Кармен и, заперев на защелку дверь, быстро разделась и легла рядом.
— Сейчас мы все подлечим, все вернем на место и приведем, главным образом в порядок потенцию. Витя, не сопротивляйся, я знаю, что делаю. Такой шок можно снять только сексом.
— Но у меня жена, — пролепетал Самойлов из последних сил.
— Успокойся, она бы эту акцию одобрила. Считай, что я не женщина, я врач, которая спасает великого артиста. Вот так, мой дорогой, еще, еще — и мы уже в полном порядке. Жене мы скажем, что это были процедуры.
Процедуры продолжались допоздна. Самойлов остался ночевать с Кармен в общежитии. Слава позвонил жене Самойлова Татьяне и рассказал о том, что случилось в театре, и на этом успокоился. Не успокоилась только Татьяна. Рано утром она приехал в общежитие, кто-то ночью забыл запереть двери, и Татьяна застала «свого Хозе» в объятиях Кармен. Позже Самойлов узнал, что дверь открыл Рыжий, принявший Татьяну за подругу Кармен, вызванную для продолжения банкета.
К вечеру в общежитие нагрянул тесть Борис Иванович и привез Самойлову чемодан его вещей. Тесть был разъярен, настроен очень воинственно и в какой-то момент схватился за случайно попавшие под руку плоскогубцы, чтобы выполнить давнюю угрозу и прищемить «кутах». Но в общаге был народ, понявший, что такое «кутах» и пришедший в негодование от готовящейся экзекуции. Высокий и крепкий Рыжий закрыл Самойлова, и Борис Иванович, послав зятя на три буквы, хлопнул дверью и ушел.
В этот день отношения с Татьяной до конца не разорвались. Таня ждала ребенка, они пробовали встречаться на нейтральной территории, в том числе и в общежитии, где теперь с согласия дирекции жил Самойлов. Татьяна изредка печатала Самойлову курсовые работы по учебе в Литературном институте, куда он все-таки поступил. Но раны не зарубцовывались. Вскоре родилась дочь. Татьяна, окончив школу, стала работать на дому машинисткой, а Самойлов после суда и развода остался один. Позже Самойлов пытался склеить разбитые черепки, но оказалось — не судьба, не хватило воли.
Пророчество Золотухина, что «девятый месяц — самый длинный», начинало сбываться. Пошел Девятый месяц, а театр по-прежнему репетировал «Гамлета». Наконец начались прогоны. Самойлову до слез было жалко в спектакле два момента: гитары, которую после зонга на слова Пастернака, Высоцкий разбивал об угол сцены, и живого петуха, который кукарекал в верхнем проеме в начале спектакля. Однажды Самойлов, увидев привязанного за ногу белого петуха в трюме театра, так возмутился, что хотел пойти жаловаться директору. Но завпост заявил:
— Мы уже много раз жаловались, но Любимов ни в какую: нужен живой петух и — баста, нужна натуральная земля для могилы Офелии и — точка. Это уже пятый артист-петух, другие четверо издохли. Неизвестно, дотянет он до премьеры или нет.
— Вы как-то их отличаете?
— Конечно. Первого звали Принц. Второй был упрямым, и прозвали его Балбес. Третий из анекдота – Роберт, четвертый – Фортинбрас.
— А этого как зовут? – спросил Самойлов.
— Костя Паншин зовет его за голос – Карузо, а я — бедняга Йорик. Больше месяца он не протянет. Они так здесь худеют, что даже на бульон не годятся. Когда на одном из первых прогонов, на глазах присутствующего Шостаковича, Высоцкий разбил гитару, композитор не удержался и вслух воскликнул:
— Господи, за что?
Свидетели последующего разговора двух гениев умалчивают об эпитетах, которыми композитор «высек» режиссера, но эффект был отрезвляющим, эту мизансцену Любимов, кстати, к радости Высоцкого, отменил.
Поскольку «Гамлет» рождался долго – девять месяцев, то на репетициях, в зале театра бывало много народу. Любимов высоко ценил атмосферу «советов и советчиков», казалось, он купался в этом. Нет-нет, да кто-то подходил к нему и с умным видом что-то советовал, репетиция останавливалась, появлялись новые варианты, предложенные командой «просветителей». Актеры реагировали на это сдержанно, а если прерывалась репетиция, то и с откровенной враждебностью. В ту пору в художественный совет театра входило много разновеликих друзей театра, от Вознесенского до Чухрая. Всех сегодня и не упомнишь. По начальным буквам — весь перечень алфавита. Однажды, во время репетиции «Гамлета», обсуждая государственное устройство Дании в сравнении с Россией, кто-то, говоря о последствиях татаро-монгольского ига, подбросил Любимову цифирь, что это «иго» было де «три века». Любимов подхватил «подсказку», заладил про эти «три века», про трагический путь России, что, мол, актеры, не понимая атмосферы эпохи, никогда не смогут сыграть верно. По всей видимости, эти нравоучения достали Высоцкого.
— Владимир, вы ведь еще и поэт, это же надо изучать и изучать основательно.
Разговор этот был на людях, как на спектакле «Берегите ваши лица», но там этот прием был частью представления и, по слухам, основательно «доставал» Высоцкого. А здесь была рядовая репетиция, строилась роль, которая исполнителю трудно давалась, и он не раз от подобных «накачек» срывался. Когда в пятый раз прозвучало «три века татаро-монгольского ига», Высоцкий не выдержал и обратился к подсказчику:
— Уважаемый товарищ Д….., зачем вы обманываете режиссера? Татаро-монгольское иго в России не было три века. Оно было 256 лет.
В зале был шок. Все замерли и уставились на Любимова.
Товарищ Д…. не знал, что ответить. И, наконец, выпалил:
— Ну и что это такое для истории, Володя? Все равно почти три века.
— В том- то и дело, что не «почти»! – уже завелся Высоцкий. — Ваше «почти» это без малого полвека. Это все равно, что из нашей истории выбросить пятьдесят лет Советской власти. Выбросить войну, космос, и создание театра на Таганке. Простите, Юрий Петрович, можно сделать небольшой перерыв? А то я возненавижу не только татаро-монгольское иго, но и королевскую Данию.
Любимов сделал обиженное лицо, положил свою поседевшую голову на левое плечо и сказал.
— Ну, зачем же так? Ну, пожалуйста, прервитесь.
Высоцкий ушел со сцены. Любимов повернулся к присутствующим в зале и сделал ремарку, которую Самойлов надолго запомнил:
— Звезды не любят теней, они привыкли сверкать непогрешимыми. Давайте минут на пятнадцать сделаем перерыв.
В зале на этой репетиции сидел актер театра и педагог Щукинского училища Александр Сабинин. Проходя мимо Самойлова, он подхватил его под руку и, отведя в сторону, сказал:
— Витя, если бы ты знал, как мне интересно следить за этими репетициями, за Любимовым. Как он вырос за эти годы, как точно делает замечания, какая работа со светом, музыкой — и во всем есть место интуиции, знаниям истории…
— Это вы, Александр Александрович, про «три века татаро-монголького ига»?
— И про это тоже. Чудесная импровизация: и тот и другой – гений и то, что происходит здесь на «Гамлете» — это история.
Между прочим, к этой «истории» имел отношение еще один человек: сын Юрия Петровича Никита Юрьевич. Он тогда учился в Литературном институте. Самойлов часто встречался с ним на семинаре В. Розова и И. Вишневской. Никита в это время был каким-то окрыленным, начитанным и предупредительно-вежливым молодым человеком. Правда, если к нему чересчур приставал кто-нибудь из артистов, он немедленно ощеривался, становился колким и в чем-то похожим на отца. По просьбе Самойлова Никита дал ему прочитать одну свою пьесу. Пьеса Самойлову понравилась, и он на одной из репетиций с радостью поделился своими впечатлениями с Любимовым.
— Согласен, пара светлых мыслей там есть, — ответил Любимов и пошел в туалет. Самойлов, обескураженный таким ответом, пошел следом и оба «нависли» над писсуарами.
— А вы внимательно читали своего сына? – с укором спросил Самойлов.
Любимов посмотрел в его сторону и не ответил. Они вышли из туалета в коридор и молча, начали расходиться в разные стороны. Вдруг Любимов остановился, окликнул Самойлова и подозвал ближе.
— Вот вы учитесь в Литературном институте, так ведь?
— Да, в семинаре у Виктора Сергеевича Розова, — с достоинством ответил Самойлов.
— Вот тебе строчки одного поэта:
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй во славу,
во славу нам!
Кто написал это?
— Это царский гимн и написал его Пушкин! – без промедления ответил Самойлов.
— Тепло, но не горячо. У Пушкина есть «Молитва русских», но это не гимн. Гимн написал Жуковский. Музыку композитор Львов. А исполнили этот гимн впервые в Большом театре в 1833 году в присутствии царя Николая Первого. Я это знаю, потому что заканчиваю вместе с Людмилой Васильевной пьесу «Товарищ, верь!», где я хотел тебе дать роль, но теперь подумаю.
— Какую роль, Юрий Петрович?
— Я сказал, что теперь подумаю! Учиться вам надо. Хороших пьес у одного Лопе де Вега более двух тысяч. А этот господин был универсально образованным человеком, владел несколькими языками. Но даже его всего не переставили. Так что, дружите, но не перехваливайте друг друга. «Если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, у нас вырастали бы только гении».
— Кто это сказал?
— Не я, но я запомнил, и ты — запомни.
Любимова окликнул Глаголин и они пошли наверх, где была назначена встреча с пушкинистом, преподавателем Литинститута Владимиром Ермиловым.
Надо сказать, что много позже Юрий Петрович признался, что к Богу его привел именно сын, Никита Юрьевич. Так что Никита в полном смысле выполнил свою сыновнюю миссию. В этом признании сын выглядит мудрым проводником, более зрячим, чем даже его великий отец.
Вскоре «Гамлет» был показан зрителям. Это был триумф театра и, конечно, Гамлета – Высоцкого. Хотя Любимов считал, что лучшая роль Высоцкого в театре — это Свидригайлов. Позже он так и писал: «…Гамлета он постепенно играл все лучше и лучше. Один раз в Марселе он играл удивительно. Я не мог оторваться».
Конечно, Мастеру виднее. Премьерные представления по определению еще не могли быть вершиной этого спектакля. Вершина будет дальше, когда театр начнет гастролировать и его увидит мир. Вот почему Любимов упоминает Марсель. После премьеры «Гамлета» сотни поклонников еще больше стали раздирать Высоцкого. Концерты, концерты, концерты…
Даже Любимов не удержался и «подключился» к ним. Предлогом стала замена спектакля (кажется «Матери» из-за болезни З. Славиной.
В театре на Таганке всегда были неслучайные зрители, поэтому администрация на свой страх и риск решила предложить в качестве замены импровизационный концерт с участием В. Высоцкого, Л. Филатова и других актеров. Концерт прошел на «ура». Это и стало поводом к созданию спектакля – концерта.
Много позже Любимов вспоминал: «В последнее время несколько артистов сделали в театре такую программу «В поисках жанра». Владимир её вел. Мы все как-то старались его легализовать, потому что он работал, а власти все делали вид, что его нет. Это была такая полуимпровизационная вещь. Владимир говорил вступительное слово и вел как бы все это…Боровский сделал оформление, я им сделал программу, наметил все это. Хотя это их творчество было. Я только помогал им. Он много выступал, правда, попадало всем за его концерты. Ему мешали, как могли. — Это чудо – как они не старались мешать, он все равно спел все, что хотел».
При этом рядом с Володей уже с первых его выступлений как актера театра на Таганке, пристроилось огромное количество «случайных» людей, известных знатоков «приватизации» песни… Впрочем, это уже другая история. Этот народ относился к Володе потребительски, клялся ему в любви, но погудка у них была другая: «Много песен над Волгой пропето, да напев был у песен не тот».
Дело Пугачева
Впереди театр на Таганке ждали первые гастроли в Болгарии и грандиозный успех в Белграде. А пока, минуя «Бенефис», где Самойлов в незабываемом «спарринге» репетировал с Борисом Галкиным одну роль и сыграл Глумова в спектакле «На всякого мудреца, довольно простоты», подошло время спектакля «Товарищ, верь!».
И вдруг в этой паузе наступил свой звездный час и у Самойлова. Однажды он постучал в кабинет Любимова, когда он пил чай с Ермиловым.
— Тебе чего? – спросил он недовольно.
— Хотел посоветоваться, — нашелся Самойлов.
— Сейчас мы договорим с твоим учителем и тогда посоветуемся.
Вскоре Ермилов вышел, объявив по дороге, что торопится в Литиститут. – Входи, входи, Самойлов. Какой вопрос у тебя? Хочешь чаю?
— Спасибо, нет. У меня другое: есть один замысел. Я читаю на концертах в филармонии. Меня приняли туда по конкурсу три года тому назад.
— Знаю, дело это хорошее. Мой друг Смоленский там давно успешно работает. Знаешь его?
— Конечно, очень хороший чтец.
— Сколько вы там зарабатываете?
— Я или Смоленский? – с улыбкой спросил Самойлов.
— Смоленский прилично зарабатывает. Он ведь асс в этом деле. Его «Евгений Онегин» — первоклассная работа. Сколько у тебя концертов в месяц?
— Мало. Около двенадцати.
— Где?
— Чаще всего в школах.
— И как школа подкармливает?
Самойлов стал мяться, уходя от ответа.
— Что совсем никак? Не верю?
— У вас какая зарплата, Юрий Петрович? – неожиданно спросил Самойлов.
— Это не секрет. Оклад в З00 рублей. А у тебя?
Самойлов вздохнул и на выдохе сказал:
— И у меня примерно столько же.
— Где, в филармонии? – удивился Любимов.
— Да, в филармонии.
— Подожди, а в театре у тебя сколько?
— 150 рублей.
— Слава богу, мы тебе больше не дали, а то ты совсем испортишься.
— Спасибо Юрий Петрович, но я не за этим к вам пришел
— Говори?
— Я подготовил всю поэму Есенина «Пугачев». Поэма дополняется приказами Екатерины Второй и сценами из одноименного романа В. Шишкова. Все это выучено самостоятельно, но для этого моноспектакля нужен режиссер. Я прошу вас помочь мне. Много времени я не отниму. Работа будет оплачена дирекцией филармонии. Договор я принес.
С этими словами Самойлов положил на стол договор в двух экземплярах. Директор просил передать, что если Любимов согласится у нас работать, то можно вписать в договор любую сумму…
— Как любую?
— Любую, до тысячи рублей.
— Так ты бы так и говорил, а то я уже губу раскатал. Машину надо ремонтировать, Людмила Васильевна свою не дает. Так ты всего «Пугачева» выучил?
— Всего.
— Ну, начни с конца. Последний монолог Пугачева.
Самойлов начал читать и вдруг в дверь постучали. Любимов встал, открыл дверь и резко сказал стучавшей, Элле, нашей завлитше:
— У меня репетиция, позже!
Через месяц у Самойлова была сдача моноспектакля «Пугачев». Репетировал он с Любимовым ровно семь раз, минут по сорок. Всю остальную работу проводил замечательный режиссер, ныне успешно работающий в Гетеборге, Яков Клебанов. Но Любимов сделал один верный стратегический ход. Зная понаслышке, какой цепляющийся и вредный худсовет в литературном отделе Московской филармонии, он пригласил на один из последних прогонов своего старого приятеля по Вахтанговскому театру Якова Смоленского, корифея в жанре чтецкого искусства. В договоренное время Яков Михайлович приехал в театр на Таганке. На пустой сцене, где заведомо Самойлов поставил выгородку, они вместе с Любимовым посмотрели прогон и, сделав замечания, поехали в ресторан. Замечания были такие: не гнать, не волноваться и не кричать – это не таганский спектакль. Когда на сдачу приехал не Любимов, а Клебанов худсовет обиделся и заведомо приготовился отнестись к непривычному и неприемлемому в то время жанру моноспектакля — резко отрицательно. ( В те годы в чтецком искусстве царствовали незыблемые традиции яркой «Журавлевской школы». На сцене — актер, его голос, и его величество Автор – лучше всего — классик). К счастью ситуацию выправил Смоленский, которого Любимов попросил подставить плечо. Смоленский сел рядом с директором и посадил рядом с собой Якова Клебанова.
— Позвольте мне перед началом показа, — в свойственной ему аристократической манере начал Смоленский, — сказать несколько слов об этой необычной работе.
Яков Михайлович обернулся к расстроенному директору, который и пришел на худсовет только потому, что хотел поближе познакомиться с Любимовым, и, получив одобрение, встал и, разведя руками, иронически бросил:
— Конечно, мы тут редко закрываем новые работы и особенно спектакли…
В зале раздался гомерический хохот. Смоленский переждал всплеск эмоций и, развернувшись к худсовету, продолжил:
— Мы не привыкли в нашем жанре видеть моноспектакли. Правда, ведь? А жаль! Сегодня мы обязаны искать новые формы и то, что я увидел в театре, куда меня пригласил Юрий Петрович посмотреть прогон данного моноспектакля, говорит о том, что и в нашем традиционном искусстве пришла пора искать новые выразительные средства. Я ничего не буду предварять, никаких эпитетов вы не услышите от меня. Единственно, я хочу сказать несколько слов об артисте, о Викторе Самойлове. Смоленский протянул руку в сторону стоящего неподалеку Самойлова и продолжил:
— Виктор Самойлов — ведущий артист тетра на Таганке. Человек он способный и очень трудолюбивый. С моей точки зрения, этим жанром он владеет профессионально. Несколько лет назад он стал Лауреатом Всероссийского конкурса чтецов и с тех пор работает в театре и у нас. (Все это говорилось главным образом для директора филармонии.) В театре на Таганке идет одноименный спектакль. Сразу скажу, моноспектакль Любимова и Самойлова ничего общего не имеет с театральной постановкой на Таганке. Любимов с исполнителем в этой работе во многом отталкивались от документов по делу Емельяна Пугачева. Их оказалось много. О некоторых мы и в помине не знаем. Вот почему у исполнителя в руках папка с номером дела, вот этот канцелярский стол и больше ничего. Все остальное — актер, текст поэмы и проза Шишкова. Яков Михайлович сел и вдруг громко скомандовал:
— Приготовиться! Начали!
Самойлова словно ударило током. Он вышел на сцену, медленно открыл папку и четко, с небольшим немецким акцентом прочитал первый указ императрицы о поимке Емельяна Пугачева. Дальше все покатилось, как нельзя лучше. Сдача прошла хорошо. Худсовет единогласно проголосовал за принятие этой работы в репертуарный план Московской городской филармонии. Не будет лишним напомнить, что в ту пору чтецкое искусство было необычайно популярно. В литературном отделе филармонии совмещали тогда работу с театрами Народные артисты СССР Игорь Ильинский, Василий Лановой, Народные артисты России Дмитрий Журавлев, Борис Горбатов, Петр Вишняков, Иван Русинов, Сурен Качарян, Михаил Казаков, Сергей Юрский; заслуженные артисты России Борис Моргунов, Юрий Мышкин, Николай Доброхотов … Позже пришли молодые исполнители: Александр Калягин, Юрий Голышев, Рафаэль Клейнер, Виктор Татарский, Александр Филиппенко, Павел Любимцев, Тамара Селезнева и многие другие. К счастью, в наши дни этот жанр начинает подниматься «с колен», после пренебрежительно — нигилистических 90-х годов.
В дальнейшем Самойлов сыграл более 300 раз этот моноспектакль и объездил много городов, выступая на разных площадках.
Вскоре после «филармонической истории» в театре вывесили приказ о начале работы над спектаклем «Товарищ, верь!». Оказалось, что Пушкина играют пять человек, а Дантеса и Николая Первого один Самойлов. Это было впервые. После семи лет совместной работы у Любимова к Самойлову появился кредит доверия. Позже было еще одно назначение, в единственном числе на роль Чичикова в «Ревизской сказке» по Гоголю, но в это время Самойлов ждал своего назначения главным режиссером театра и, к сожалению, не сыграл эту роль. Её сыграл Феликс Антипов, в будущем один из преданных и любимых актеров Юрия Петровича.
Филатов как зеркало товарищества.
Спектакль «Товарищ, верь!» в полной мере раскрыл еще одного замечательного актера и поэта Таганки и в дальнейшем всея Руси, Леонида Филатова. Любимов мечтал, чтобы в пьесе созданной им и Л. Целиковской участвовали лучшие артисты театра. Все заранее предвкушали на сцене творческий поединок Высоцкого и Филатова. Но, к сожалению, этого не произошло. Высоцкий был освобожден от этой роли. Позже он объяснял свое неучастие уклончиво. Самойлов как-то в удобный момент спросил его, почему? Он ответил дерзко:
— В Ермоловском театре играл Пушкина один артист - Всеволод Якут и на него ходили десятилетия. На пятерых будут ходить в пять раз меньше. Эти пятеро были: Дыховичный, Галкин (Погорельцев), Золотухин, Джабраилов и Филатов. Спектакль был музыкальным, песенным, а для Филатова — звездным. Его любовь к поэзии, чтецкое мастерство, мужская харизма, буквально заполняли сцену.
Леонид Филатов был из тех людей, кто обостренно чувствовал чужую боль. Самойлов написал о Филатове очерк. В нем попытка рассказать о человеке, который был своего рода совестливым камертоном театра на Таганке.
Предбанник в “Щуке”
На своем курсе в Щукинском театральном училище Филатов казался старше других. Был он не особенно говорливым. Хотя если втягивался в разговор, заводился с пол-оборота, и тогда на вас обрушивался шквал темперамента, аргументации и особого обаяния. Слушаешь его и для себя отмечаешь: “Смотри, как словом владеет! Метафоры, сравнения, гиперболы… Поэт — ни взять, ни отнять”. Нередко мы с ним беседовали в “предбаннике” — это сразу за входом в Щукинское училище. Сидел он как-то по-особому: нога заплеталась за ногу, и казалось, что Филатов как бы “складной”. При этом его аскетическое лицо и глаза жили одной жизнью, а тело походило на “катапульту”. Особенно близки ему были на курсе “рижане” — Борис Галкин и Владимир Качан. Оба талантливые, яркие, поющие и к тому же удивительно душевно чистые. Кто сегодня не знает Бориса Галкина — замечательного актера кино, даровитого режиссера! А Владимир Качан — актер, певец и композитор — сегодня еще прославился и как писатель, что актерское чудо не бывает вчерашним. Мне кажется, Либо оно есть, и тогда его видно даже с похмелья, либо его нет. Вся эта тройка сразу обратила на себя мое внимание. Я был на три курса старше. Но меня тянуло к этим ребятам. Привечали они меня по той же “рижской прописке” и пиетету к общему нашему учителю до “Щуки” — Константину Григорьевичу, Титову, первоклассному артисту и педагогу, до сих пор живущему и работающему в Риге.
Уже тогда Володя сочинял музыку на стихи Филатова, а Леонид, помимо стихов, писал под чужим именем тексты к самостоятельным показам курса. Как шутливо говорил об этом периоде об этом периоде Филатова Качан, что был “мифический автор, споткнувшийся на Артуре Миллере”. То есть однажды авторство Филатова было кем-то из педагогов Щукинского училища неожиданно раскрыто. Скандал был интимным, домашним, больше похожим на Вахтанговский розыгрыш. Однако меня в этой истории поражает другая сторона — филатовская самоуверенность. Не надо забывать, что самоуверенность тоже бывает от Бога, только она иначе зовется — искра Божия: “хотите, могу сочинить и под Миллера”. Потом я к этому загадочному творческому пути Филатова вернусь, потому что он, как мне кажется, объясняет его позднюю “шекспировскую” страсть писать по мотивам произведений других авторов. Так вот, ко второму курсу “мифический Миллер” на таких показах стал не только заметной фигурой, но и своеобразным лидером курса. Даже внешне Леонид Филатов изменился. До этого он почему-то казался невысоким, а тут вдруг внезапно подрос.
В конце жизни Леня нередко сетовал, что мало удалось сделать. И это притом, что и сегодня удивляешься и количеству сыгранных ролей в кино и театре, и немалому литературному наследию, оставленному нам, не говоря уже о роли Филатова в замечательном телевизионном цикле “Чтобы помнили”. По своей технике, наполнению и глубине Филатов, на мой взгляд, особенно в кино, далеко “перешагнул” за привычные рамки актера только советского экрана. Почему я берусь так утверждать? Потому что перед глазами не только творчество Филатова, но и память, отчетливо сохранившая наши беседы с ним о кино, его влюбленность – его прекрасное знание мировой кинематограф в целом. А начиналось его увлечение кинематографом у меня на глазах, уже в Театре на Таганке, где мы стали коллегами после окончания Филатовым Щукинского училища.
Соперничество
(Высоцкий и Филатов)
Это было в начале 70-х, сразу после постановки “Гамлета”, где Леонид сыграл друга Гамлета Горацио. Часть коллектива поехала на гастроли со спектаклями на КамАЗ, а другая, “сколотив” бригаду, двинула по городам и весям добывать известность театру концерты и выступлениями. Семен Фарада исполнял юморески, Дыховичный пел, Филатов читал стихи и кажется, только что сочиненные им пародии. Играли сцены из “Павших”. Жили иногда по нескольку человек в номере, спорили и ссорились, но дело свое делали ответственно. На концертную “Таганку” шли, залы были переполнены, и аплодисментов хватало на всех. В ту пору Леонид Филатов уже был женат на актрисе театра Лидии Савченко. Им как супружеской паре выделялся в гостинице города, где проходили концерты, отдельный номер или, если повезет — остановиться в пригороде, могли в небольшом коттедже. Так было и в Чистополе. Вопреки названию города грязь в этом Чистополе была несусветной. В гостинице, где мы остановились, мухи, как разнуздавшиеся опричники, роем набрасывались на всех постояльцев и в буквальном смысле изводили московских гастролеров. Филатовым повезло! В Чистополе им выделили коттедж. Вот в этот коттедж в один из прекрасных летних дней меня пригласили на обед. Должен сказать, что Лида Савченко всегда была не только хорошей актрисой — красивой, доброжелательной, но и к тому, же прекрасной хозяйкой. Во время гастролей она так умело организовывала семейный быт, что к ней “на огонек” многие просились, иногда прямо-таки с беззастенчивым нахальством.
Самойлова по старой памяти и доброте душевной чета Филатовых привечала в свободное от работы время, подкармливая и одаривая теплом и вниманием. Самойлов отвечал взаимностью. Но гостеприимство “отрабатывал”. Перед обедом читал в семейном кругу литературно-чтецкие программы, коих знал в то время немалое количество. И вот однажды, после исполнения композиции “Мальчики” по роману Ф. М. Достоевского, «Братья Карамазовы», разговор перебросился на кино. Леня до этого еще не снимался. Каково же было мое удивление, когда я в один вечер, практически экстерном, получил высшее образование, есть ли можно так выразиться, по разделу мирового кинематографа. Это был прямо какой-то Ниагарский водопад, обрушившийся на мое совсем не киношное миросозерцание. И дело было тут не в именах актеров, которых Филатов знал наперечет, и не в названиях фильмов, десятки из которых были у него на памяти, а в какой-то всепоглощающей, неистовой влюбленности в кино как таковое. Причем этот двухчасовой монолог был насыщен аналитической глубиной, сравнительным анализом, пониманием достоинств и недостатков той или другой ленты. Но самое главное, что осталось у меня в памяти после той встречи — это какое-то почти детское желание Филатова когда-нибудь появиться на экране. Я был поражен, и исполнился искренним и сожалением сочувствием, что кино пока обходит такого выдающегося киномана.
Позже, когда Филатов появился в “Экипаже”, я сразу вспомнил те гастрольные наши посиделки и порадовался, что прорыв состоялся и что ничего случайного не бывает: страсть способна победить все. Позднее, когда Леня стал выступать в концертах от Театра на Таганке уже в Москве, где его пародии имели невероятный успех, он начал встречаться на одной площадке с Володей Высоцким. Наблюдать за этим соперничеством было необыкновенно интересно. Должен заметить, это “единоборство” — одно из самых поучительных и ценных наблюдений моей “таганской” молодости. Но прежде несколько слов о спектакле “Гамлет”.
Давно известно, что во многом от начала спектакля зависит, как он пойдет дальше. Недаром в старину наставляли: “Господа, возьмите верный тон!”. К примеру, великий Карузо как огня боялся в опере “Аида” первой арии Радамеса. Представьте себе: непьющий Карузо без пятидесяти граммов виски никогда не выходил петь эту самую арию — «Милая Аида”. И вот когда трудное верхнее “си” великим тенором бралось и все за кулисами вздыхали с облегчением, спектакль сразу получал другое дыхание.
В “Гамлете” таким камертоном была сцена с призраком, в которой участвуют Марцелл, Бернард и Горацио. Надо было видеть, как Высоцкий из-за кулис следил за труднейшим монологом Горацио в исполнении Филатова, когда тень призрак вновь возвращается:
Но тише! Вот он вновь! Остановлю
Любой ценой. Ни с места, наважденье!
О, если только речь тебе дана,
Откройся мне.
После короткой, проходной сцены проводов во Францию Лаэрта, которого в ту пору довелось играть автору этих строк, начинался первый, труднейший монолог Гамлета. Из-за кулис видно было, как Высоцкий сразу, с одного оборота, включал себя эмоционально, подхватывая заданный Филатовым тон, и шел по нарастающей дальше:
Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в своих затеях.
Глядеть тошнит! Он — одичалый сад,
Где нет прохода.
Прошло уже много лет, как нет Высоцкого и не идет “Гамлет”. Теперь нет и Филатова. Но их голоса, их темперамент и негласное творческое соперничество не уходит из памяти. Почему? Мало сказать, что их отношения были дружескими и замечательно сердечными. Было еще что-то очень важное, что знали друг о друге только они и о чем, не исключено, продолжают говорить и там, где не только — “дальнейшее молчанье», «несть ни печали, ни воздыхания».
Трое в одной карете
До киноактерской параболы одной из лучших театральных работ Филатова был Пушкин в спектакле по пьесе Л. Целиковской и Ю. Любимова “Товарищ, верь!”. Здесь он впервые получил главную роль и к тому же материал, позволявший его поэтической натуре развернуться в полную силу. Что он, кстати, и сделал самым превосходным образом.
Пушкиных, по замыслу Любимова, было пятеро. Дыховичный исключительно рельефно и выразительно играл Пушкина —бражника и повесу. Пушкин Бориса Галкина (позже эту роль так же превосходно играл Погорельцев) был чист, непосредствен и по-детски обидчив. Восходящая звезда театра, корифей эпизода Р. Джабраилов играл Пушкина-арапа. Со всем его бешенным темпераментом Золотухин, на мой взгляд, был Пушкиным, которого сочинил в своем воображении русский народ. А вот тот тонкий, почти эфирный материал, где зритель должен был поверить, что Пушкин не только поэт, а к тому же еще и гений, выпал на долю Филатова. Леонид с этой сложнейшей «партитурой» справился превосходно. Из царской золоченой кареты мне всех Пушкиных было видно как на ладони. В этом спектакле автор этих строк в одном лице был и Дантесом, и царем Николаем, поэтому по ходу спектакля сталкивался с ними практически в каждой сцене. Чем же отличался Пушкин Филатова от других? Прежде всего, глазами! Фокус был в глазах! Они, не в укор другим исполнителям, которые, повторяю, играли первоклассно, чувствовали по-особенному боль времени. Боль ведь возникает тогда, когда должное и сущее не сходятся в одной точке. (В этом смысле двадцатый век, а теперь уже и двадцать первый наряду со своими величайшими достижениями в немалом — “и зрение и слух повергли во прах”.) В России мы это почувствовали во всем, в том числе и в театре. Ведь актеры — дети своего времени. Хорошее и дурное пронизывает их жизнь в неменьшей степени, чем других, обычных людей. (Судите хотя бы по фильму Филатова “Сукины дети”.)
Но тогда, в пору расцвета “Таганки”, Филатов в упомянутом выше пушкинском спектакле работал превосходно. Если коротко обозначить, чем занимался его Пушкин — это сочинением стихов “здесь и сейчас”. Поэтому в исполнительской манере присутствовала значительная доля импровизации. (Надо заметить — мотив “импровизации” у Пушкина — один из излюбленных, а в “Египетских ночах”, как мне кажется, он достигает своего апогея.) У Филатова получался странный фокус. Происходило, если так можно выразиться, помножение пушкинского вечного — на отраженного в сегодняшнем. Об этом “помножение” и превосходно сказал Тютчев:
…вдруг знает Бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.
Так вот, Филатов за звучащими поэтическими строками умел, как никто, поднимать “страшный груз”, не говоря уже о мастерстве его чтения, которое было выше всяких похвал. Позже эти глаза, в которых всегда было больше, чем давал сценарный материал, появились на экране. Они-то и выделили Филатова из плеяды героев экрана его времени.
Не могу не вспомнить еще один трогательный эпизод. По ходу спектакля в уже упомянутой золоченой карете, находящейся в центре сцены, на каждом спектакле в ожидании своего выхода сталкивались Л. Филатов, Н. Шацкая, игравшая красавицу Натали Гончарову, и царь Николай I, которого играл я. Находились мы вместе в этой карете недолго, минут пять. Но если учесть, что спектаклей было за сотню, то для поэтической натуры Леонида это были не минуты, а целая вечность. О чем мы только не говорили в этой незабываемой паузе! И я порой думаю: не там ли, в этой золоченой царской карете, “нашептались” те новые чувства, которые соединили Шацкую и Филатова на долгую и счастливую жизнь?
Про Федота-стрельца,
удалого молодца,
или Театр Леонида Филатова
Эта пьеса не только первая, но, с моей точки зрения, и лучшая в творчестве Леонида Филатова. И хоть Филатов признается, что сказка “Про Федота” написана по мотивам русского фольклора, мне лично не хотелось при чтении “взвешивать мотивы”, а вот почерк мастера я весомо почувствовал еще много лет тому назад. Именно в тот год, когда Леонид впервые прочитал эту сказку на телевидении.
Сказку он читал в двух отделениях. Нечего и говорить, что рекламной паузой тогда не увлекались. Показали Мастера через паузу, отбив антракт рисунками, где действительно было немало мотивов русского фольклора. Сейчас вспоминаешь все это и невольно заключаешь: хоть и подчас суровая была тогдашняя действительность, но уж если что-то ей было по душе, то она никогда не скупилась на ласку.
Сегодня, кроме “Аншлага” и бесконечных “бенефисов юмористов”, ничто не представлено из того, чем когда-то на экране было, к примеру, чтецкое искусство!
Сегодня изменились цели! Тогда, пусть с ошибками, но кормили своих и строили Великое государство. Сейчас не только кормим чужих, но и свое дожевываем без оглядки.
В «Сказке о Федоте» Филатов показал себя первоклассным характерным актером. Причем в упомянутым спектакле нескольких персонажей он сыграл просто “на ура”. Других же наделил такими яркими штрихами, что неспроста на следующий день проснулся не только знаменитым актером, но еще и известным поэтом. А до этого он стал героем одной драматургической мистификации.
В училище Филатов писал для студентов под чужим именем целые пьесы. Причем делал это так мастерски, что это долго сходило ему с рук. Кажется, педагог Сомов, “споткнувшийся” на филатовском Артуре Миллере, первым засомневался и, к вящему удивлению кафедры, разоблачил самозванца. В этом “лицедействе”, с моей точки зрения, лежит мотив, который лег в основу поздних драматургических работ Филатова, представленных в вышеупомянутом сборнике. Кроме “Часов с кукушкой”, все пьесы этого сборника помечены автором как произведения по чьим-либо мотивам. Невольно задаешь себе вопрос: почему по мотивам? Судя по “Часам с кукушкой”, Филатов мог написать вполне зрелую, оригинальную пьесу. А вот, поди, ж ты, ему не хотелось! Ему нравилось пожить рядом с Робин Гудом, почувствовать верность Лизистраты, стать авантюрным “Возмутителем спокойствия”, повариться в блистательном театральном мире Гоцци, с улыбкой признаваясь читателю и будущему зрителю, что:
Я — уличный паяц. Я — Труффальдино.
Смешнее нет на свете господина!
Да, я дурак, я клоун, я паяц.
Зато смеюсь над всеми, не боясь.
Телевидение
как источник правды
Нечто близкое к названию этой главки я услышал однажды от Лени по телефону. Прозвучало это больше иронически, с неким подтекстом, пожеланием того, чего что хотелось бы от телевидения в идеале.
Многие годы он был связан с телевидением и, видимо, сверхзадачей этой работы считал, помимо прочего, правдивое освещение жизни.
Какой бы неприятной оно ни было, надо коснуться одной, особенной черты Леонида Филатова — способности говорить правду, он был из тех, кто копил, а потом срывался и буквально резал «правду-матку». Наверное, не все ему удалось что он мог бы сделать как режиссеру в фильме “Сукины дети”. Но за некоторыми героями угадываются подлинные персонажи из реальной жизни и их весьма нелицеприятные оценки.
Позже, в пору отсутствия в театре Ю. Любимова, Филатов, из-за творческой несовместимости, принципиально вместе со В. Смеховым и В. Шаповаловым ушел от назначенного в Театр на Таганке А. Эфроса в “Современник” к Г. Волчек. А в другом случае, накануне раскола Театра на Таганке и возникшем конфликте с Ю. Любимовым, Филатов без колебаний поддержал Н. Губенко. Это обостренное чувство правды жило в нем всегда.
Оно помогает понять истоки его работы над главным делом последних лет его жизни — телевизионным циклом “Чтобы помнили”.
В этой утверждающей формуле названия передачи — громадная часть Леонида Филатова как художника и человека. Эта работа заняла почти десятилетие и во многом стала отрезвляющим источником — для нашего беспамятства и равнодушия.
Даже когда явно давшийся о себе знать болезнь Филатова внесла тревогу за его здоровье, когда его слово о наших “звездах” произносилось уже с трудом, передачи не только не утратили своей остроты и художественной ценности, но казалось, что каждая из них звучит как исповедь, которая в любую секунду может прерваться.
Говоря по-честному, нам, таганцам повезло — рядом с нами был не только Володя, но и Леня! Убежден, что на Таганской сцене навсегда будут рядом сердца этих друзей и соперников: Высоцкого и Филатова.
Его величество Закулисье
После нескольких спектаклей «Товарищ, верь!», Любимов сделал Самойлову замечание:
— Ты решил, что раз тебя за роль царя похвалил Евтушенко, то тебе и море по колено? После генеральной репетиции Евтушенко на обсуждении сказал: «Есть спектакль, и впервые есть царь.» Суть этой оценки в том, что текст Николая Первого, звучавший со сцены впервые, был подлинным. Это сделало его, в какой-то степени, равноправным партнером в истории жизни поэта и его трагедии).
— Почему затягиваешь сцену «Царского двора»?
— А что я делаю неверно?
— Все ты делаешь верно. Но затягиваешь обход «царского двора», гарцуешь перед каждой «юбкой».
— Но ведь царь любил это делать, — возразил Самойлов
— Возможно. Но он играл на сцене России, а ты на сцене театра. Тут другие законы.
Самойлов учел это замечание, но нередко опять повторял ту же ошибку. Уж больно приятно было, когда практически вся труппа стояла навытяжку и излучала восторженную любовь к своему монарху.
Если бы Любимов знал, какие при этом шутки сквозь зубы отпускают актеру Самойлову, то не исключено, что критика сменилась бы каким-нибудь «молочным продуктом» за проявленное актером мужество.
— И вот еще что, я давно тебе хотел сказать, — добавил Любимов, — после своего куска в «Пугачеве», возвращаясь наверх с цепью, бросай ее на самом конце помоста, иначе вся мизансцена с цепями у плахи, будет на носу у зрителя. А до плахи еще полспектакля. Понял?
— Да, Юрий Петрович.
— И не надувайтесь вы так в «Пугачеве». Черт вас побери! А то прямо какие-то культуристы на сцене.
Это замечание не случайно. Однажды на общем собрании Высоцкий предложил назначить Самойлова ответственным за спортивную форму актеров Таганки. Самойлов выпросил у директора денег, купил гантели, штангу, скакалки, экспандер и организовал за кулисами нечто вроде спортивного уголка. Перед спектаклем в этом месте все разминались. А кое-кто всерьез подкачивал мышцы. Высоцкий нередко по 40 раз отжимался от пола. И никаких сердечных недомоганий не было и в помине. Еще одним достижением этого времени было приглашение Чемпиона мира по шахматам Анатоли Карпова на сеанс одновременной игры против 16 досок театра на Таганке.
Карпова привез знакомый Самойлова, ученый – химик, чемпион Москвы по шахматам 1967 года Михаил Волович и старший тренер Молодежной сборной СССР по шахматам Анатолий Быховский, который способствовал подготовке шахматистов Карпова, Каспарова, Крамника и многих других. Четырнадцать досок театра на Таганке не устояли, но было две ничьи. За спинами Смехова и Самойлова расположились Волович и Быховский. Оказалось, что их присутствие очень помогло противостоянию Чемпиону мира.
Частым гостем театра в это время был и поэт Евгений Евтушенко. Он любил театральное Закулисье и с удовольствием общался с актерами театра. Когда ставили его поэму «Под кожей статуи Свободы», помогал освоить стихотворную форму. Читал он свои стихи превосходно. Как правило, на репетицию приезжал в разных костюмах. Таганцы сбились со счета, чего только нет у великого поэта в его гардеробе. Однажды, когда на премьере «Под кожей статуи Свободы» в конце спектакля по каким-то причинам не оказалось Любимова, Евтушенко схватил висевшую на стене — большую фотографию главного режиссера, взлетел на сцену и, высоко подняв портрет, вызвал восторг зрительного зала. Но было и другое, что надолго застряло в памяти.
Во время одной репетиции поэмы «Под кожей статуи Свободы» к Евгению Александровичу неожиданно подошел Высоцкий с листом бумаги. Оказывается, это были стихи написанные Володей накануне. Народу в верхней гримерки было много. Все замерли. Ждали, как оценит нашего пиита всесоюзная и даже мировая знаменитость. Евтушенко достал ручку, прошептал губами все стихотворение и вдруг стал его править, переставляя четверостишья.
— Вот так будет хорошо, — бросил он с чувством мастера, преподавшего урок подмастерью.
Володя, не прогибавшийся не перед кем, вдруг с каким- то благоговением принял переданный листок и отошел в сторону. Репетиция продолжилась, но неприятный осадок у многих присутствующих остался. Самойлов потом чуть ли не отругал Высоцкого за то, что он позволил так себя унизить. Но тот ответил:
— Женя обещал помочь напечатать. Тут не до обид.
Высоцкому очень хотелось выпустить свой сборник. Не случилось! Не удалось помочь и таким мэтрам как Евтушенко и Вознесенский. Вранье, что не захотели, все дело в том что, не так все просто было у Высоцкого с властью. В записях вся «верхотура» слушали его поголовно, большинство из них даже любили Высоцкого, но было табу. Раз «утек в народ», значит опасен. Лучше не замечать и делать вид, что творчество знаменитого барда — это просто издержки демократии. Позже, когда не стало Высоцкого, вышел сборник «Нерв». Самойлов поставил по нему моноспектакль « Четыре четверти пути» с Юрием Голышевым, одним из лучших чтецов Московской филармонии. На премьере в Библиотеке имени Ленина были родители: Нина Максимовна и Семен Владимирович. В это время уже не говорили о признании Высоцкого Кобзоном — они понимали его значение. На сдаче спектакля «Четыре четверти пути», все тот же директор филармонии сказал, что этот спектакль — лучший подарок 27-му съезду КПСС. Так начиналась приватизация Высоцкого, которая продолжается и поныне.
Гостиница «Советская»: Пушкин и Евтушенко
Выпуск спектакля «Товарищ, верь!» совпал с болезнью соавтора Любимова — Людмилы Васильевны Целиковской. Поэтому отмечать премьеру стали, когда она поправилась после инфаркта.
Евтушенко предложил гостиницу «Советская», в которой
когда-то был ресторан «Яр», славившийся цыганским музыкальным фольклором и местом развлечений московской богемы. Так что идея показалась вполне закономерной: раз уж гулять, так непременно в «Яре». Собрались в выходной день театра. Народу было много. Спектакль о Пушкине был многонаселенным. С напряжением ждали Целиковскую. Она запаздывала. Без нее не начинали. Наконец она появилась в дверях, и Евтушенко бросился её встречать. Когда она заняла свое место неподалеку от мужа, Евтушенко, кажется, уже слегка выпивший и возмечтавший сразить знаменитую актрису, закатил спич о «женщинах в русских селениях». Говорил долго, вдохновенно, и в конце прочитал стихотворение «Когда мужчине сорок лет».
И вдруг Людмила Васильевна негромко заметила ближайшим соседям:
— Хлопотун. И добавила, не моргнув глазом: «Пережить Пушкина немудрено, а где все остальное?»
Юрий Петрович одернул жену, но та и не собиралась приручаться.
Она поднялась после выступления поэта – очень бледная и увядшая после болезни и сказала в абсолютной тишине несколько поздравительных слов. Потом оглядела всех присутствующих, словно выискивая кого-то и, не найдя Высоцкого, сказала, сидевшей неподалеку Татьяне Жуковой:
— Танька, давай «Не вечернюю».
— А я не знаю, — ответил Жукова.
— Как не знаешь? А я знаю! Целиковская многие годы великолепно играла в Вахтанговском театре Лизу Протасову с Николаем Гриценко, этим поистине явлением всего артистического мира, и с незабываемой Ириной Буниной в «Живом трупе» и «Не вечернюю» знала» наизусть.
— Может кто- нибудь поддержит? – безнадежно скользнула она глазами по лицам присутствующих. И тут, словно по божьему промыслу появились цыгане, и началась такая раздольная «Не вечерняя», что подхватил не только театр, но даже официанты, накрывавшие длинный стол. Особенно выделялся голос одной цыганки, с грудным контральто, которая безупречно выпевала каждое слово:
Ай, да не вечерняя
Не вечерняя ли нэ заря.
Ай, заря, ай да зорька.
Зорька ли – нэ спотухала,
Спотухала ей ли – нэ заря.
Ай, да вы поденьте,
Вы поденьте мангэ, братцы,
Ай, братцы, ай да тройку,
Тройку мангэ серопегих,
Серопегих лошадей
Серопегих, мангэ, лошадей!
Песня переходила уже на коду, когда на заставленный посудой бокалами и напитками стол неожиданно вскочил высокий, худой, как циркуль, длинноволосый цыган, с крючковатым носом и со скрипкой в руках. Все испугались. Общее «Ах!» прокатилось по залу. Но неожиданный персонаж не думал тушеваться. Пристроив под подбородком скрипку, он вначале демонстративно раскинул руки со смычком, затем стал виртуозно играть какую-то тему, кажется, Сарасате. Все смотрели на него, разинув рты. Но этого ему показалось мало. Скрипач, словно цапля, поднял одну ногу и вдруг безошибочно воткнул её между посудой. Сделав шаг, он в той же манере стал двигаться по всему столу, не повредив ни одного прибора. Когда он дошел до края, кто-то хотел подать ему руку, но он сделал рукой круговое движение, длинным шагом сошел со стола и встал на колени перед Людмилой Васильевной. Раздались оглушительные аплодисменты. Целиковская протянула ему руку, и он поцеловал её.
В это время в центре банкетного зала вновь появился Евтушенко. Он придерживал правой рукой левый карман, который явно был переполнен деньгами. Двумя пальцами он залез в это «заветное место», достал часть пачки и, с каким-то неподдельным восторгам, вывалил цыганам огромную кучу денег. Цыганки от радости завизжали и начали плясать. В такт этого танца взлетали юбки, отбивали дробь каблуки — веселье перешло в настоящее пиршество. В конце вечера группа артистов вместе с Наташей Сайко подошли выразить свою любовь и уважение Людмиле Васильевне. Она поблагодарила, но было видно, что здоровье её еще не вполне восстановилось. Вскоре они с Любимовым уехали на своей машине, взяв с собой Таню Жукову, которая жила по дороге. Надо сказать, Людмила Васильевна очень хорошо относилась к Татьяне Жуковой. На репетиции «Товарищ, верь!» Татьяна сидела в зале, как многие другие. На репетицию пришла Целиковская. В это время репетировали «Величальную». Этот вокальный номер исполняла Зоя Пыльнова. Целиковская вопреки Любимову, скомандовала, чтобы Жукова попробовала тоже спеть эту песню. Жукова сходу спела блестяще. В результате вышла в первый состав. На этом примере надо отметить, что у Любимова было одно золотое качество. Он не смешивал «личное» со сценой. А если проще: не смешивал кашу с мухами. Если роль у тебя получается точнее, чем у того, кто назначен в первый состав или вошел в обойму, Любимов спокойно отдавал предпочтение лучшему.
Исключением, пожалуй, была работа Высоцкого и Дыховичного над ролью Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание. В этом случае преференции были отданы Высоцкому. Поэтому поводу Дыховичный жаловался: «Репетиции построены так, что один бегун бежит по гаревой дорожке в кроссовках, а другой – в валенках по снегу».
Но это исключение было неслучайным, роль Свидригайлова одна из лучших работ Высоцкого.
Целиковская, в этот знаменательный и счастливый день празднования премьеры «Товарищ, верь!» не выпила ни одного грамма. Неподалеку от нее весь вечер сидел Филатов, который много позже сделает 26-ой цикл, посвященный этой великой примадонне советского кино и театра. Позже Самойлов увидел Целиковскую через несколько лет в Шереметьевском аэропорту. Она встречала театр и Любимова после победы «Гамлета» на Бьеналле в Белграде и гастролей в Венгрии. Она была явно не в себе. В тот момент в жизнь Любимова уже вошла другая женщина и, кажется, Целиковская об этом узнала – донесли! Но об этом позже.
По сей день у многих театралов возникает вопрос: « Из какой — такой «реторты», появился этот Джин – Юрий Любимов? Без ответа на этот вопрос невозможно понять триумф молодого Театра на Таганке.
Вот одно высказывание, уже упомянутого выше, актера Николая Гриценко, в изложении Вениамина Смехова.
Вениамин Смехов – один из основателей театра, прекрасный актер, мудрец и хранитель репутации и традиции театра, вспоминал свою встречу с Гриценко и Буниной зимой 1964-го года в доме отдыха ВТО: «Прославленный вахтанговец Николай Гриценко отдыхал в Рузе вместе со своей женой, она же — моя однокурсница Ира Бунина. И, гуляючи дорожками зимнего парка, я зову его посетить наш младенческий театр, сулю ему удовольствие, вопрошаю об их совместных трудах с Юрием Любимовым. На спектаклях, Гриценко хоть и собирался, так и не побывал, а на вопрос ответил так: «Я Юру не видел год, как он ушел от нас, а тут однажды застукал его возле машины и кричу: «Юрка! Я такого о тебе наслушался, понять не пойму! Чтобы Юра Любимов, дотошный станиславщик, самый прожженный правдист и реалист — и вдруг сделался ярым формалистом! Говорят, Брехта поставил так, что Станиславский во гробе перевернулся! Говорят, песни поют, пантомиму играют — и никакой психологии! И я не пойму — это тот Юрка Любимов или другой?» А он мне: «Тот, тот», — и укатил на Таганку!».
Надо сказать, что гениальный актер Николай Гриценко уделял внимание психологическому рисунку роли до конца своей жизни. Последними словами умирающего от сердечного приступа в психиатрической клинике Николая Гриценко, были слова: «Я только теперь понял, как надо играть Мышкина».
А вот еще исключительный по сердечности рассказ о Любимове, старейшины актерского цеха Вахтанговского театра, Галины Коноваловой:
— Юрий Любимов только что выпустил в Вахтанговском «Бесов», спросили актрису. — А Вы помните его еще совсем молодым актером, пришедшим в театр…
« Мне-то кажется, и я не изменилась, и никто не изменился. Он был прекрасный артист, очень красивый мальчик, успешный, всеми любимый, занимал в театре абсолютно все посты, какие только могут быть. И казалось, такого благополучного человека нет на свете. Вероятно, в нем что-то внутри тлело — или бурлило, потому, что он позволял себе невероятные вещи. Я знала много смелых людей, от которых много зависело, но то, что позволял себе Юра Любимов, было грандиозно. Я его называла «Юрка-самосожженец».
Потом случилась эта невероятная вещь: он пошел в училище и поставил «Доброго человека из Сезуана», которой перевернул всю театральную Москву. Ему уже было за сорок. Злые языки говорили: не может быть, это ему кто-то написал, подсказал, в таком возрасте режиссеры не рождаются. Но он всей своей деятельностью доказал, какой он режиссер — у него были дивные спектакли. А сейчас, конечно, ему 94 года… Но я к нему расположена, потому, что это мой товарищ с 17-ти лет — сколько себя помню, столько его помню. К тому, что он пришел в наш театр, я лично относилась очень положительно, в такой момент человеку надо протянуть руку обязательно. И потом, мне казалось, это интересно даже для афиши: Любимов в Театре Вахтангова. Юра сделал «Бесов» в своем ключе — такой политический памфлет, почти концерт. Просто я больше люблю другой, традиционный театр. А это театр — площадной, театр-вызов».
Тот театр, который любила Галина Коновалова (к сожалению, актриса на 99-ом году жизни покинула нас) в момент рождения Театра на Таганке, все прекрасно знали. И родилось детище Любимова, к счастью, не из любви к Вахтанговскому театру, столь же по-советски проблемному, реалистически – традиционному, как и другие, разве что в известной мере по форме и составу отличавшегося от «серой краски», пропитавшей к тому времени, практически все театральные подмостки, за исключением БДТ и спектаклей Эфроса и Гончарова
В Любимове, по всей видимости, не тлело, а клокотало осмысленное неприятие советского строя (он называл его Аракчеевским режимом), коммунистической идеологии и всего того показного, что в немалой степени разрушило это по-своему могучее государство, о котором без сожаления Любимов вспоминал и на закате своей жизни и славы.
Вот, что говорил он позже, уже о некоторых современных руководителях: «Иначе они и не умеют, потому что правят по-прежнему коммунисты, та же номенклатура. Только перетусовались. Поэтому и демократия у нас на коммунистический манер». А вот замечательные слова о профессии режиссера: «Театр не блокнот агитатора, не газета, не публицистика, театр старается создать произведение искусства с глубокими характерами, неповторимое по форме, по своей эстетике своей, по манере – как это может устареть? Моя ненависть к бутафории, к тупому иллюстрированию места действия имеет давние корни, вытекает непосредственно из опыта моей актерской профессии.
В самом деле, что для вас важнее в театре – человек, гуляющий в лесу, или лес, в котором гуляет человек? На этот вопрос Адольф Аппиа предлагал ответить каждому режиссеру и художнику еще в начале нашего века. Этот вопрос задаем мы себе и сегодня. Как сделать, чтобы то, что мы показываем зрителю на сцене выглядело бы гораздо убедительнее, чем в жизни? Мы с художником Давидом Боровским не пытались маскировать сценическую коробку под настоящий лес, землянку или блиндаж. (Речь идет о спектакле «А зори здесь тихие» — В.И-Т.) Сценическая коробка у нас «просвечивает» в этом спектакле, как и во всех других наших работах.
Наш театр не старается сделать вид, что он не то, что он есть на самом деле. Мы откровенны со своим зрителем. Мы сразу предлагаем ему условия игры, как в народном площадном театре. Если на сцене происходят превращения, то на глазах у зрителей, как бы с их участием.
Догматизм – смертельный яд искусства. Каждый раз, встречаясь с неповторимым, уникальным, произведением искусства, мы пытаемся разгадать этот новый кроссворд. Пластика спектакля, его пространственное решение, единство стиля – все это вещи
чрезвычайно важные. И каждый раз мы решаем их заново».
Показная демократия, в условиях жесткого управления искусством, была для коллектива театра привычной повседневностью. Нередко на глазах труппы проходили приемы спектаклей, подчас, незабываемые по дилетантизму оценок и откровенному хамству чиновников от культуры. Это закаляло труппу, сплачивало коллектив вокруг своего руководителя. Во многом подобная жизнь приучила актеров не замечать негативное в характере режиссера, прощать Любимову растущее отчуждение от труппы. Постепенно он становился не тем педагогом-новатором, который привел молодых актеров в театр и вместе с ними его сделал популярным, а сам по себе – мэтром, который благодаря смелости и противостоянию власти, сделался чуть-ли не главным «диссидентом» страны. В отличие от театра «Современник», где возрастной разницы у актеров с руководителем театра Олегом Ефремовым практически не было, в театре на Таганке разлет был в 25 лет. В культурной элите страны Любимов был изначально обласканным артистом и выглядел в глазах труппы человеком другого ранга. Надо сказать, что он этим превосходно пользовался. Его ссылки на опыт работы в Вахтанговском театре, всегда приносили свои плоды, его отличия и звания помогали в общении с начальством. Кстати, начальство « прозрело», но поскольку любимовский театр уцелел, стало самым наглым образом изымать в маленьком по размерам театре значительное количество лучших мест.
Было до слез трогательно, когда неожиданно Юрия Петровича вызывали куда-то «на проработку» и репетиция на какое-то время останавливалась. Тогда все, как правило, не расходились, оставались на своих местах – вдруг понадобится что-то подписать! Эта жертвенность и влюбленность в построенный дом, и чувство гордости за него, до сих пор не выветриваются из памяти. Причем, это стало обычным состоянием труппы: и тех, кто пришли с Любимовым, и тех, кто остался от старого театра. А среди них были замечательные артисты: В. Смехов, Ю. Смирнов, В. Соболев Г. Ронинсон, Л.Штенрайх, из женщин — Г. Власова, Т. Лукьянова, Т. Додина, Т. Махова, М. Докторова. Через год в театр пришли вгиковцы Д. Щербаков, В. Семенов, Т. Иваненко. Появились яркая и пластичная В. Радунская и М. Лебедев, сумевший стать ведущим артистом и у Любимова и позже, у Н.Губенко.
Пришли в театр блестящие артисты и будущие кинозвезды Ю.Беляев, К. Желдин, Л. Ермольник, А. Филиппенко. Прочно и надолго влились в коллектив люди не актерской, но важных профессий, без которых не может быть полноценной работы: летописец театра, фотомастер А. Стернин, выпускница консерватории, очаровательная заведующая музыкальной частью театра Г. Юрова, долгие годы работавший в театре художник С. Бейдерман.
И, наконец, в труппе засверкали две уникальные артистки И. Ульянова и Т.Жукова. Вскоре трудно было отличить «кирпичей» от «фундамента» — все стали равноправными участниками строительства нового театра.
«Плывущий» стакан
Особой стороной жизни театра являлись походы Любимова к начальству. У него даже был специальный костюм, какого-то ядовито- коричневого цвета, который он надевал в таких случаях. В рабочей атмосфере запомнился вязанный серый свитер, который колоритно смотрелся вместе с копной густой седеющей шевелюры.
«Плывущий» стакан, конечно, это — гипербола. Из стакана пьют, стакан можно разбить, он может быть даже названием пьесы Скриба «Стакан воды». Но Самойлов видел в театре Ленинского комсомола, на одном из совещаний, именно «плывущий» стакан.
Однажды Любимов сообщил всем на репетиции, что его опять намерены снять с работы за совокупность «преступлений». В этот день давали «Пугачева» и на прощальный спектакль пришла половина труппы театра «Современник». Играли неистово. Успех был невероятным, зрители хлопали, пока не устали.
На следующий день в театре Ленинского комсомола было назначено совещание. На нем должна была быть секретарь Московского горкома партии Шапошникова. Еще с утра народ потянулся в этот театр. Всяких театральных знаменитостей было битком. Просочилось информация, что будет крупный разговор о Театре на Таганке. Все ждали приказ об увольнении Любимова. «Современник» был во главе с О. Ефремовым. Самойлов пристроился на последних рядах и с волнением ждал, дадут слово Любимову или нет.
На сцене длинный стол, покрытый зеленым сукном. Во главе -дама из горкома, начальник управления Рудаков и его заместитель по фамилии Саметов. Товарищ Саметов сделал обстоятельный доклад, в котором беспощадно раскритиковал Театр на Таганке и его руководителя, заодно досталось и театру «Современник». Дальше пошли дебаты. Все было продумано и заранее предусмотрено. Выступающие обязательно резко говорили о «Таганке» и «гнали волну» на увольнение Любимова. Зал замер в ожидании. Духота была невыносимая, но никто не уходил. На глазах рождалась драма, и каждый хотел быть участником «исторического» события. Когда выступило человек семь, решили прения остановить и подвести черту, с тем чтобы принять решение. В этот момент кто-то из президиума на всякий случай спросил:
— Есть ли желающие выступить?
И вдруг из зала раздался сильный голос:
— Я!
Любимов встал в своем сером свитере и обернулся ко всем присутствующим.
— Я хочу, выступить, если позволите.
В президиуме пошептались, долго переглядывались, но победил промысел! Дама из горкома снисходительно махнула рукой и сказала.
— Пожалуйста, Юрий Петрович Любимов.
В этот момент, в каком- то эмоциональном порыве после Любимова, попросил слова и Ефремов, но на него навались актрисы театра и не дали ему говорить.
Любимов медленно прошел на сцену, встал за трибуну и раскрыл странички подготовленного текста выступления. И вдруг повернувшись к президиуму, попросил воды. Графин с водой находился на другом конце стола. Он красовался на широкой белой тарелке. Товарищ Саметов, взял графин, налил в стакан воды и дрожащей рукой начал передавать воду сидящему рядом человеку. У того тоже затряслись руки. Таким образом, до самой трибуны вся эта компания трясущимися руками передавала на глазах пятисот человек стакан воды. Издалека казалось, что этот стакан плывет в руках временной власти. Впоследствии так, собственно и получилось.
Что же сделал Любимов? Видя, в каком состоянии президиум, он принял из рук последнего человека стакан и резко его опустил. Такой капустник президиум явно покоробил. Но Любимов пошел дальше, он протянул стакан вперед и продемонстрировал, что его рука не трясется. Это было феноменальное зрелище. В зале раздались аплодисменты. Этой незабываемой мизансценой главный режиссер театра выиграл очередное сражение. Дальше он выступал по тексту. Вся речь была построена на цитатах Ленина, где говорилось о пролетарской принципиальности, необходимости честно говорить о просчетах и ошибках и важности борьбы с теми, кто готов припудривать или преувеличивать достижения Советской власти. Овации зала заставили выступить даму из горкома. Эта была красивая, крупная женщина, похожая на кого-то из актрис Малого театра в поздней стадии творчества.
Первая же её реплика: «Мне не нравится, что Любимов так часто цитирует Ленина!» В ответ получила «пощечину»: «А кого ему цитировать, вас что ли?» В зале тут же разразились аплодисменты.
Выступающая смутилась, кое-как закончила речь и в конце получила рукоплескания только тех, кто сидел в президиуме.
На следующий день стало известно, что Любимов «схлопотал» строгий выговор, но остался по-прежнему руководителем театра.
Приведенный выше пример бестактного отношения театрального начальства к Любимову и театру на Таганке, со временем начали меняться. Если Любимова уже не пытались уволить, то «придираться» к театру на каждой премьере было обязательным условием руководства.
К началу 70-х популярность театра, предоставила возможность проводить интенсивные гастроли.
В этом смысле 1974 год – один из самых насыщенных событиями. В это время театр гастролировал в трех столицах — Алма-Ате, Риге и Вильнюсе.
В тогдашней столице Казахстана Алма- Ате театр играл во «Дворце им. Ленина». (Ныне Дворец Республики). Самойлов и не предполагал, что через пять лет, в 1979 году он станет здесь, в Алма-Ате главным режиссером одного из театров. Но об этом позже. А пока два театра решили во время этих гастролей сыграть между собой футбольный матч. Отличился Хмельницкий. Он «пасся» у ворот алма-атинской команды и дважды с подачи рабочего сцены театра и Самойлова сумел забить победные мячи.
Покорило «Медео», тогда один из лучших ледовых стадионов СССР. Замечательно показали себя и казахские СМИ. О театре писали основательно. Писали восторженно и профессионально. Хотя Алма-атинская пресса не всегда отличалась объективностью. А вот с Высоцким было другое дело. До сих пор, сколько бы интервью на гастролях ни давал Высоцкий, их практически не публиковали. И вот в Алма-Ате произошел уникальный случай, который хочется привести, как пример редкого мужества и находчивости.
Сначала несколько слов об авторе этого репортажа. Вячеслав Каморский, можно сказать патриарх казахской фотожурналистики. Долгие годы работал фотокорреспондентом в газетах «Вечерняя Алма-Ата» и «Ленинская смена».
Вот его рассказ:
«Был 1974 год. Работал я в газете «Вечерняя Алма-Ата» фотографом. В городе гастролировал Московский театр на Таганке. Городской комитет Компартии Казахстана, органом которого была наша газета, обязал нас широко освещать это событие. Особое внимание просили обратить на спектакль «10 дней, которые потрясли мир» по Джону Риду.
После утренней планёрки ко мне подошёл корреспондент отдела искусства и литературы Евгений Гусляров и попросил сфотографировать кого-то из артистов «Таганки».
В гримёрной Дворца им. Ленина (ныне Дворец Республики.) нас встретил невысокий, крепкий, лет тридцати пяти парень. Назвался Владимиром. Тысячи и тысячи людей, особенно молодых, несмотря на упорное замалчивание Высоцкого официальной пропагандой, по песням, звучащих с магнитофонных лент, хорошо знали голос Володи.
Я же, каюсь, в своём Казахстане больше смотрел на мир через глазок видоискателя фотоаппарата и ни певцами, ни артистами (разве что местными «актерками», как говаривали в старину) особенно не интересовался.
Первые Володины слова при встрече, признаться, сильно меня удивили. «Ребята, — сказал Высоцкий, — за месяц гастролей по Средней Азии я давал интервью раз пять. Результат нулевой. Ни одной публикации. Так что мне не жалко, давайте поговорим, но это дохлый я скажу вам сразу, номер».
Тем не менее, разговор состоялся, и очень даже продолжительный. Труппа в это время репетировала: Володя то уходил на сцену, то возвращался к нам в гримёрную. Гусляров вёл беседу, я фотографировал, не жалея плёнки. Старался поймать нюансы его мимики. Так в общей сложности продолжалось часа два.
А потом все вместе пошли обедать. В столовой Володя заказал манты. Из солидарности мы сделали то же. Вскрыв вилкой один мант, я про себя чертыхнулся, увидев содержимое — много варёного лука и самую малость мяса. Собрался было возмутиться и ругнуться, но Володя меня опередил, заказав ещё одну порцию. Да-а, то, конечно, была пародия на манты. Но понимали это мы с Женькой, истинные алмаатинцы, искушённые в восточной кухне, но не Володя. Мысленно пожалел тогда артиста: бедняга, дескать, получает каких-нибудь семьдесят рублей в месяц, недоедает, даже такому кулинарному посмешищу рад.
Откуда ж мне было знать, что в Москве Высоцкий в те времена раскатывал на трёхсотом «Мерседесе» и с Мариной Влади объездил полмира.
Словом, отобедали, пожали друг другу руки и разошлись.
По пути в редакцию Гусляров объяснил мне, что с публикацией интервью могут возникнуть серьёзные проблемы. В партийных верхах Высоцкого, мягко говоря, недолюбливали за смелые и глубокие песни.
Впрочем, это не помешало Жене быстро сделать материал, а мне фотографии. Дело оставалось за подписью редактора.
Между тем главный редактор нашей «Вечёрки» в то время был в круизе по Средиземноморью. Его первый заместитель, ярый партиец, цербер в душе и по должности, вторую неделю маялся на больничном. Ответственный секретарь, тихий боязливый пьяница, тоже под крышей больничного листа третий день обмывал родившегося сына. Оставалась второй заместитель – милейшая Нина Ефимовна, жена полковника КГБ, работавшая у нас больше года.
К дверям её кабинета мы вырулили к утру следующего дня. Не дойдя до стола метра три, мы рухнули на колени и поползли, протягивая ей двести строк текста с фотографиями.
Не на шутку перепуганная, ничего не понимающая женщина кинулась к нам: «Мальчики, что с вами?» Женька понурил голову: «Пока не подпишете — с колен не встанем!».
Сев за стол и нахмурив брови, замредактора долго читала, правила текст. Изредка поглядывая на нас, всё ещё стоящих на коленях, и осуждающе покачивая головой. Напоследок её рука с авторучкой взмыла вверх, замерла — резко, как беркут на добычу, ринулась вниз к бумаге и, клюнув в статью, поставила подпись.
Тираж номера «Вечёрки» в сто тысяч экземпляров с материалом о Владимире Высоцком алмаатинцы раскупили весь без остатка».
А теперь переместимся в Литву, в город Вильнюс.
В Литве Высоцкий влюбился. Сразу отметим, что это — довольно таинственная история. Самойлов предмета его влюбленности никогда не видел, но сражаться за «прелестную незнакомку» ему пришлось отчаянно. Однако начнем по порядку.
В Вильнюсе Высоцкий жил, если память не изменяет, в гостинице «Интернациональная», где в ночном баре играл женский оркестр. Самой красивой девушкой была в нем барабанщица. Об этой загадочной девушке чуть позже.
Вот короткие характеристики из разных источников того времени: «В те сентябрьские дни 74-го мы, выпускники вузов пропадали во Дворце профсоюзов. Студентов не послали на «картошку». И вот это счастливо совпало с гастролями Московского театра на Таганке в Вильнюсе.
Бедные студенты, умудрялись получать контрамарки на спектакли, а то и просто пробираться мимо зазевавшихся билетерш. Правда, бывали случаи, когда вытаскивали их из зала за шкирку, но это не портило настроения. Могли простоять все отделение за дверью, на слух, воспринимая происходящее на сцене. Под громкие аплодисменты встречали перед началом спектакля Любимова.
Выглядел он очень импозантно: в пуловере и в джинсах (в те годы — последний писк моды), на шее – элегантно завязан яркий платок. Публике представили главного режиссера Театра на Таганке, приехавшего тогда из Италии, где он ставил спектакль, на один день в Вильнюс поддержать своих подопечных. Любимов уже тогда был окружен легендами. Зал утонул в аплодисментах. Почему мне нравится вильнюсская театральная публика, так это за ее теплоту, сердечность и умение встречать и отличать подлинный талант!»
А вот небольшой кусок, непосредственно связанный с впечатлениями от общения с актерами театра на Таганке.
«Иногда в надежде попасть на спектакль, мы приходили во Дворец профсоюзов задолго до начала спектакля, бродили по этажам, сидели на лестницах, покуривали и обсуждали уже увиденные спектакли, считая себя великими театралами».
Имена приехавших артистов приводили всех в восторг: Борис Хмельницкий, Алла Демидова, Зинаида Славина, Валерий Золотухин, Нина Шацкая и многие другие. И, конечно же, в первую очередь Владимир Высоцкий! Сразу же отмечу, что его я видела только в одном спектакле «Девять* дней, которые потрясли мир» Джона Рида, где он играл Керенского. (Ошибку оставляем, для достоверности изложения).
И вот однажды сидя на лестнице в одном из многочисленных коридоров где-то совсем на верху Дворца профсоюзов, мы беспечно коротали время, а из-за двери одной из комнат тоже слышался чей-то разговор и еле слышные переборы струн гитары. На Таганке на гитаре играли и пели почти все, в их исполнении я впервые услышала потрясающие песни на стихи Дениса Давыдова. И вдруг дверь открылась и вышел… Владимир Высоцкий! Можете себе представить нашу реакцию: мы обалдели, остолбенели от неожиданности. Я потеряла дар речи. Владимир Семенович усмехнулся, оглядел нашу славную компанию, и в сопровождении двух молодых актеров, что-то насвистывая, начал спускаться по лестнице вниз. Мы не сразу опомнились. А потом начали корить себя: надо было спросить о том, да об этом, надо было контрамарочку попросить… надо было… надо было… Начали делиться мимолетными впечатлениями: а куртка у него кожаная и роста он невысокого, а взгляд какой!? А в целом, как волной накрыло – энергетика сильна! Но мгновение – и все закончилось!»
По всей видимости, Высоцкий произвел сильное впечатление и на женский оркестр в баре гостиницы. Поначалу его в этот бар не пустили. (Точнее, это был сентябрь, — с 3-по 15 сентября 1974 года). Вот еще одно свидетельство из области нравов и моды тех лет:
«Высоцкого не пустили в ночной бар, тем более в таком виде. Впрочем, вид у него был самый европейский. И приехал он в Вильнюс на «BMW». Но не было очень важной детали — галстука. Галстук он никогда не носил, не было его на нем и во время гастролей. Стало быть, ресторан в этом баре ему не светил, хотя он и был Высоцкий».
Далее следует интервью, которое и подведет к нашему рассказу о барабанщице. Это интервью было найдено много лет спустя. Оно опубликовано в вильнюсском еженедельнике «Экран недели», выходившем на литовском и русском языках. Вопросы задавались стандартные, за исключением, пожалуй, первого: «Вы редко играете в кино счастливых, веселых людей. Почему?»
«Я не задумывался как-то над этим, – ответил Высоцкий. – Но, пожалуй, верно: беззаботных людей я не люблю. В наш нервный век даже у легких, общительных людей за душой всегда есть что-то сложное, какие-то свои проблемы. Человек должен иметь, о чем печалиться. Но оговорюсь тут же: мои герои хотя и не беззаботно веселы, но и не ущербны и не несчастны».
«Мы приехали на гастроли в ваш прекрасный город. Я говорю «прекрасный» совсем не потому, что это такая обычная, шаблонная фраза. Город, правда, прекрасный. Здесь отличные дороги. Я тут на машине, поэтому мне это особенно приятно. Были мы в Старом городе, очень много всего интересного увидели».
Очевидно то, о чем дальше пойдет речь, случилось в следующие два дня – опять же между 13 и 15 сентября. По всей видимости, события разворачивались так:
«12 сентября. Прием в редакции газеты «Советская Литва».
13 сентября. 8.30 – Телевидение.
В 15 часов – обед у секретаря ЦК. Высоцкий не может усидеть на месте больше пяти минут – чувствует, что сейчас сорвется.
14 сентября. Высоцкий запил.
Утром 14 сентября театр играл «10 дней, которые потрясли мир». Неожиданно в номер Самойлова позвонил Любимов. В этот день, по существующей очереди, Керенского играл Высоцкий, а не Самойлов. Спросонья Самойлов не сразу разобрал, что звонит Любимов.
— Виктор, это Любимов. Прошу тебя, немедленно приезжай в театр, Высоцкий запил.
Самойлов быстро оделся, выбежал их гостиницы, поймал такси и через пятнадцать минут был в театре. Пройдя через служебный вход за кулисы, он увидел, что спектакль уже идет. Вдалеке маячила фигура Высоцкого в зеленом френче. Он готовился к сцене «Рожи болота», в которой впервые появляется премьер-министр тогдашней России Керенский. Самойлов пристроился за кулисами, неподалеку от шефа. Оба ждали, встанет ли Высоцкий на плечи пантомимиста. В этот день «креатурой», как теперь принято говорить, был Слава Спесивцев, в будущем известный театральный режиссер, Народный артист России. Когда Володя встал на плечи Спесивцева, тот с трудом его удержал.
Любимов неотрывно следил за Высоцким. Была надежда, что Володя справится с текстом. Но когда начались «заплетыки», шеф повернулся к Самойлову и сказал:
— Все понятно! Виктор, переодевайся, дальше будешь играть ты.
Костюмеры принесли Самойлову в гримерку френч. Он быстро переоделся и уже в следующей сцене вышел вместо Высоцкого. Кажется, никто ничего и не заметил. Виктор это почувствовал по аплодисментам. Его исполнению этой роли аплодировали все-таки «пожиже». Наконец спектакль закончился. Помощник режиссера передала от Любимова слова благодарности. Самойлов пошел на выход.
Вдруг в глубине пустой сцены он увидел Высоцкого. Сразу стало понятно, что он ждет именно Самойлова. На Володе был тонкий кожаный пиджак и джинсы. Глаза — красные и виноватые. Самойлов подошел и поздоровался.
— Володя, что случилось?
Не объясняя ничего, Высоцкий, со злым и агрессивным настроем, спросил:
— Виктор, ты можешь поехать со мной на драку? Только подумай – нас там могут обоих убить.
— Куда?
— В бар «Эрфурт». Все отказались, даже оба Ваньки. Видишь ли, «я пьян в стельку». А я не пьян, я просто оскорблен! Они, мои близкие друзья, но на деле струсили и отказались. (По всей видимости, он имел в виду Дыховичного, Бортника или кого-то еще). Самойлов ни на секунду не сомневался, что их поведение был правильным. В таком состоянии на драку не ездят. Но тут Высоцкий напомнил Самойлову, как тот ударил одного бугая, прорвавшегося в театр на Новый год. Тогда Высоцкий пробежал с гитарой наверх в буфет и, увидев драку, крикнул Самойлову по ходу:
— Ну, ты, Витька, даешь — левой рукой и такой нокаут.
В этот момент это воспоминание неожиданно стало соблазнительным аргументом в пользу плана Высоцкого. Самойлов согласился. Почувствовав это, Высоцкий начал убеждать, что в паре он работает очень хорошо и не подведет. Когда решение было принято, оба решительно пошли на выход. Слева от служебного входа стояла коричневая красавица «BMW». Высоцкий быстро сел за руль и уставился на Самойлова. На обоих были кожаные пиджаки и почти одинаковые джинсы.
— Ну, садись же! — крикнул он через стекло. Самойлов на секунду подумал, куда с таким водителем садиться, где безопаснее: впереди или ссади? Но здравый смысл подсказал простое решение:
— «Раз уж ты согласился на эту авантюру, не все ли равно, где ты будешь сидеть? Самойлов устроился справа от Высоцкого, и машина, как ракета, сорвалась с места. Через несколько десятков секунд на спидометре было под «сто». По ходу сумасшедшей езды по Вильнюсу, Высоцкий стал рассказывать. Рассказывал отрывочно, рассчитывая на воображение партнера.
— Я выступил в ночном ресторане и познакомился с девушкой из оркестра — барабанщицей. Мне она очень понравилась. Настолько, что мы с ней не могли расстаться. В общем, любовь с первого взгляда. Не осуждай, человек грешен. Как говорит один мой друг из Дагестана: «Если человек дважды совершил одно и тоже преступление, ему оно кажется позволительным». И в этом свой резон. Мы не расставались до утра. Потом она уехала. Я даже не слышал, как она уходила. Очень хотел выспаться. Вспомнил, что моя очередь играть Керенского.
— А почему не позвонил мне?
— Думал, что буду в порядке. Вдруг зазвонил телефон. Для театрального звонка, подумал, рано: не стану снимать трубку. И все-таки снял, почувствовал, что звонит она. Оказывается, её утром около дома подкараулил и избил её парень. Потом этот «прыщ» отвез её в больницу. Я поехал к ней. До этого выпил. Выведал, где эта «сука» живет. Приехал туда, его нет. Поехал на спектакль – остальное ты знаешь. Сейчас он на работе в баре «Эрфурт». Он играет в оркестре и… тоже барабанщик!
Минут через двадцать машина остановилась. На вывеске на красном фоне красовалось название – бар «Эрфурт». Выйдя из машины, оба, как «близнецы и братья» вошли в бар с главного хода. На страже стоял седой пожилой литовец в специальном одеянии. На вопрос Высоцкого, где можно увидеть людей из оркестра, получили ответ с литовским акцентом:
— Здиесь прохада ниет. Оркестр там.
Литовец указал в глубину помещения и отошел, не желая разговаривать с пьяным человеком.
Высоцкий обернулся к Самойлову и спросил:
— У тебя есть деньги?
— Есть, — с этими словами Самойлов достал ему пять рублей.
— Эй, господин, я – Высоцкий! Хочу поговорить с моими коллегами из оркестра. В ответ послышалось:
— Я не знаю, кто есть Вицоцкий. Здиесь ниельзя!
Литовец отвернулся от предложенных денег и напоследок дал совет:
— Идите вокруг. Там иесть проход по круглой лиестнице.
Этого было достаточно. Оба вернулись к машине и проехали вперед, к воротам. Машину на всякий случай поставили на выезд, если придется драпать. По длинному двору прошли к винтовой лестнице, которая вела на бельэтаж. Остановились в дверях. Отдышались. Приоткрыв дверь, услышали оркестр. Играли что-то из «Серенады солнечной долины». И тут инициативу взял на себя Самойлов:
— Володя, входим плотно, защищая спины, друг друга. Умоляю, ни на секунду не отходи от меня. Договорились?
Высоцкий, молча, кивнул.
— Покажешь этого типа, остальное я беру на себя, — героически сказал Самойлов.
Они незаметно вошли в зал. Он был овальным и только частично просматривался. По верхнему круглому периметру были расположены ложи и столы. Внизу находилась полукруглая площадка, видимо, здесь танцевали. На невысокой сцене в три ряда сидел оркестр и наяривал «Солнечную долину». Никто в сторону визитеров даже не посмотрел.
Между тем «таганские мстители» стали решительно продвигаться в сторону сцены. Самойлов чувствовал, как Высоцкого лихорадит. Когда осветилось лицо барабанщика, Володя не выдержал и хмыкнул. Кто-то из оркестра оглянулся и следом за ним повернулся барабанщик. Это был лохматый белесый литовец с довольно приятным, но испуганным лицом. Его сухие длинные руки носились в разные стороны, Издалека он походил на большую серую саранчу, севшую на барабан. То ли испуг барабанщика, то ли абсолютная уверенность в победе, но вдруг Высоцкий ринулся к обидчику в обход. Тот сидел ближе к противоположной стороне. Володя легко спрыгнул в зал, развернулся для броска и, выдав тираду «глубочайшего возмущения», бросился на сцену. И тут произошел обвал. Высоцкий зацепился ногой о бордюр и полетел прямо в ноги оркестрантов. Через секунду он вскочил, но было поздно – его стали бить. Закрываясь от ударов, он рвался к барабанщику и, не переставая, ругался, самой отчаянной браню.
Самойлов бросился на выручку.
— Что вы делаете? Прекратите! – кричал Самойлов, все ближе приближаясь со своей стороны к барабанщику.
— Остановитесь! Хватит! Это же Высоцкий!
Под эти увещевания, Самойлов незаметно оказался на очень близком расстоянии от головы обидчика. Сделав обманное движение рукой справа, он длинным крюком ударил противника слева. Ударил в прыжке, увеличив силу весом и скоростью. Голова барабанщика взлетела высоко вверх, а потом тот безмолвно полетел спиной назад, в красную портьеру.
Первый удар Самойлов не почувствовал. Потом его начали бить со всех сторон. Он уклонялся или «отстреливался» в разные стороны. В какой-то момент они с Высоцким оказались рядом. Самойлов толкнул его к двери и ринулся следом. Кубарем, слетев с винтовой лестницы, они бросились бежать к машине. За ними неслись восемь человек из оркестра. У барабанщика в руках был черный остов для микрофона. И тут, в воротах рядом с машиной Высоцкого остановилось такси. Из машины мгновенно вылетели четверо «таганцев» во главе с Дыховичным. Литовцы, увидев подкрепление, сразу остановились. Команда театра выстроилась стенкой, и приготовилась к бою. Обе группы минуту гипнотизировали друг друга. И в этот момнт послышался шепот Дыховичного:
— Спокойно, только драки нам не хватает. Завтра все газеты напишут, о бандитах с Таганки.
— Что предлагаешь? – спросил Высоцкий.
— Уходим!
— Хорошо, но с достоинством, — согласился Бортник.
Все не торопясь сели в машины и медленно проехали мимо под испепеляющими взглядами литовских оркестрантов. Барабанщик сделал Высоцкому жест, обозначающий его отношение к Володе и что этой дракой дело не закончено. Позже, зять члена политбюро Д. Полянского Ваня Дыховичный нередко вспоминал, как спасал Высоцкого во время гастролей в Литве. (У этой драматической истории есть продолжение: через два месяца после случившегося, по свидетельству приятеля Высоцкого Степанова, Владимир тайно приезжал в Вильнюс и пробыл там два дня, где его видели с барабанщицей. Кто-то успел их сфотографировать. Эта «незнакомка» оказалось необыкновенной красавицей). Надо сказать, что у Высоцкого были самые шикарные женщины. Его женой стала французская кинозвезда Марина Влади. Один комедиограф, увидев однажды Марину Влади и окруженного дамами Высоцкого, с грустью заметил: «Женщина никак не хочет понять, что любить её вечно – вовсе не значит любить её все время, без перерывов».
По всей видимости, у Высоцкого бывали «перерывы». Но к одной женщине он возвращался всегда. Она была рядом, в театре! Если бы так случилось, что Высоцкому надо было взять с собой одну женщину на необитаемый остров, нам кажется, что он взял бы только её.
В гостинице Высоцкому сделали укол, и он на сутки заснул в номере. В это время Дыховичный перегнал «BMW» в Москву.
Вениамин Смехов, вспоминая этот случай, сказал: «Так плохо ему еще никогда не бывало. Он был в ужасном состоянии, рвался куда-то бежать. Если бы не Ваня Дыховичный, который находился при нем неотлучно, может быть, Владимир и умер бы тогда».
На следующий день Высоцкий вместе с Любимовым улетел в Москву, где Володя несколько дней лечился в больнице.
Закончив гастроли в Вильнюсе, театр переехал в Ригу, где гастролировал с 17 по 30 сентября.
Для Самойлова Рига была родным городом. Здесь жили родители, друзья, здесь он учился. В «Ригас Балс» его старый приятель, журналист Володя Пожарский опубликовал статью «Интервью через 16 лет» Словом Самойлов почувствовал себя здесь звездой. В нескольких сценах «10-ти дней…», он вставлял латышские слова, ему за эти глупости бурно аплодировали. Это наваждение продолжалось, пока не вернулся Любимов. За свои «импровизации» он получил втык, однако знания латышского пригодилось. В театре появилось объявление, что будет концерт в ЦК партии Латвии. Самойлов был включен в этот концерт наряду с вернувшимся в Ригу Высоцким. За день до концерта в ЦК Самойлов предупредил Любимова, что у него будет отдельный номер. В Латвии, школьная программа в русских школах предусматривала изучение латышского языка. К тому же Самойлов вырос среди латышей, поэтому за годы жизни в Москве, язык не успел забыть.
— Только без глупостей. Сам понимаешь, где выступаем, — сказал Любимов.
В ЦК на концерте присутствовал, впоследствии трагически окончивший свою жизнь, Борис Пуго, тогдашний партийный руководитель Латвии. Самойлова выпустили первым во втором отделении. Он начал с приветствия на латышском языке, а потом, подсматривая в томик Яна Райниса, прочитал под аплодисменты стихотворение «Песня фабричной девчонки». В этот раз он волновался больше обычного – в зале присутствовали его родители. Под шквал аплодисментов, концерт закончил Высоцкий. После выступления за кулисами началась раздача «пирогов». На зависть всем, Самойлову « по блату» вручили самую большую бутылку «Рижского бальзама». Внезапно подошел Любимов и, пожав руку, сказал одно слово: «Благородно».
После концерта ЦК Латвии дал в честь артистов фуршет. Видно было, что латышское партийное начальство оказалось довольно.
* * *
Действительно, к этому времени отношение к театру стало постепенно меняться к лучшему. Театральное руководство по-прежнему мучило Любимова на сдачах спектаклей, но при этом «модная» Таганка становилась своего рода визитной карточкой для зарубежных гостей. Все делалось по довольно лукавому принципу: смотрите, и у нас демократия.
Наступил 1975 год. В театр просочились слухи, что будут гастроли за границей. В кулуарах мечтали о Париже и Лондоне, но в жизни все оказалось иначе. Объявили, что летом театр едет в Болгарию. Перед поездкой в театр приехал крупный чиновник из Министерства культуры, кажется, заместитель министра Попов и долго учил всех, как должно вести себя за границей. «Не ходите поодиночке, песни петь вместе можно — это все-таки Болгария, как говорится, наша 16–я республика. А вот – насчет выпивки придется воздержаться — там будут «наши люди». Кто попадет на заметку, в следующую поездку, разумеется, не поедет.
Все это говорилось с улыбкой, даже интеллигентно и трогательно, но сквозь зубы просачивалось высокомерие и цинизм. Закончил чиновник и вовсе смешно: «Не вздумайте у болгар, особенно у женщин, спрашивать спички. « А что, болгары разве не курят?» – робко спросил главный интеллигент в театре Д. Межевич.
— Не в этом дело. «С-пичками, в Болгарии называют одно очень важное место у женщины, поэтому будьте осторожны». После этих слов грохнул такой гомерический хохот, который не смог остановить даже Любимов.
Изо всех зарубежных поездок визит театра в Болгарию, состоявшийся в сентябре 1975 года, описан, пожалуй, лучше всего. Любопытно, что заслуги в этом принадлежат перу болгарских исследователей – Любена Георгиева и Анатолия Петрова. С Любеном Георгиевым Самойлов не только познакомился в Болгарии, но и дружил многие годы, до самой преждевременной смерти этого талантливого писателя. Эти оба очевидца рассказали о Таганке немало интересного, предоставляя неизвестные ранее факты. Вот небольшой фрагмент в изложении моих болгарских друзей:
«К описываемому моменту «Таганка» существовала уже одиннадцать лет, спектакли театра заслужили хвалебные рецензии корреспондентов ведущих газет мира. Но на гастроли, однако, дальше Набережных Челнов «Таганка» не ездила. (Как пел Высоцкий: «Ох, мы поездим, ох, поколесим! // В Париж мечтая, а в Челны – намылюсь…»). Наконец, в 1975 году театр одержал маленькую победу над чиновниками от искусства – театру разрешили гастроли в Болгарии. Как мы помним, советского человека заграницу пускали с большой осторожностью и опаской. Сперва надо было съездить в Болгарию, потом – в Венгрию, затем – в Югославию. Тот, кто оправдывал доверие, мог рассчитывать на поездку на «загнивающий» Запад).
Именно в такой последовательности и проходили гастроли Театра на Таганке в 1975–1977 гг. Первоначально было запланировано, что гастроли займут 12 дней. Однако болгарское министерство культуры, понимая, что гастроли «Таганки» вызовут колоссальный интерес, попросили продлить их. Не зная порядок, обратились не к главному режиссёру театра, а прямо в ЦК КПСС. Сейчас в это трудно поверить, но вопрос о продлении гастролей всего-то на 6 (!) дней решался на самом высоком уровне.
Временный поверенный по делам Болгарии в СССР встретился с заместителем заведующего отделом культуры ЦК КПСС специально для того, чтобы изложить просьбу болгарского министерства культуры. Советский чиновник никакого решения не принял (вероятно, ранг имел недостаточный), но обещал «в ближайшие дни сообщить о возможности удовлетворения просьбы». В «ближайшие дни» ответа не последовало (такие вещи с налёта не решаются). Лишь через пять недель «братьев по социалистическому лагерю» проинформировали, что «вопрос о продлении на 6 дней срока гастролей согласован министром культуры СССР тов. П.Н. Демичевым с секретарём ЦК КПСС тов. К.Ф.Катушевым». (Что ни говори, а чтение документов из архива ЦК КПСС – занятие увлекательнейшее!) Дополнительную информацию сообщил известный болгарский журналист Л.Коларов, работавший московским корреспондентом болгарского телевидения и радио, в беседе с С.Ковачевым – поклонником творчества Высоцкого из Софии.
Коларов сказал, что в 1971 году у нас на высшем партийном уровне было принято решение об усилении культурных связей с другими соцстранами, – писал мне С.Ковачев. – Коларов работал в Москве и постепенно подружился с актёрами Театра на Таганке, особенно с И. Бортником, а также главным режиссёром театра Ю.Любимовым. Однажды в Москву приехала Людмила Живкова, дочь тогдашнего руководителя Болгарии Тодора Живкова, начавшая в то время работать в болгарском комитете по культурным связям с зарубежными странами. По рекомендации своего мужа Ивана Славкова, тогдашнего руководителя болгарского телевидения, она позвонила Коларову и попросила того показать ей Москву. У себя дома он познакомил её с Любимовым. Живкова предложила пригласить «Таганку» в Болгарию, на что Любимов ответил: «Имейте в виду, что мы – театр невыездной». Тем не менее, в конце концов (четыре года понадобилось!), гастроли состоялись».
В Болгарию «Таганка» привезла четыре спектакля, из которых Высоцкий участвовал в трёх – «Гамлете», «Десяти днях, которые потрясли мир» и «Добром человеке из Сезуана», четвёртым оказался спектакль «А зори здесь тихие». Все пятнадцать представлений с 6 по 23 сентября прошли с огромным, успехом. И всё же самым популярным спектаклем был «Гамлет», а самым популярным актёром – Владимир Высоцкий. Об исполнении Высоцким роли Гамлета болгарская пресса писала задолго до прибытия театра на гастроли. Эти публикации сыграли роль несколько неожиданную: несмотря на то, что Высоцкий уже был известен в Болгарии как поэт и исполнитель своих песен, в сознании многих он оказался, прежде всего, исполнителем роли Гамлета. Видимо, именно этим объясняется тот факт, что первый вопрос корреспондентки болгарского телевидения был не о песнях, а о Гамлете. Высоцкий был к этому не совсем готов («Вы меня как-то «Гамлетом» оглушили», – признался он позднее во время передачи), но на вопрос ответил очень оригинально, в немногих словах рассказав своё понимание этой роли: «Гамлет, которого я играю, у меня не думает, быть ему или не быть. Потому что – быть; он знает, что жить всё-таки хорошо… Но то, что Гамлета постоянно мучает какая-то раздвоенность — значит, что – то не в порядке, если ясно, что жить – лучше, а люди всё- время решают этот вопрос… Вопрос вовсе не в том, жить или не жить. Вопрос в том, чтобы не возникал бы этот вопрос». Спектакли «золотой поры» «Таганки» остались лишь в памяти тех, кто их видел. Видеоматериалов практически нет. Почему так получилось? Видимо, не только из-за неприязни начальства, – для проведения видеосъёмки разрешения из ЦК определенно не требовалось. Основная проблема заключалась в позиции Ю.Любимова. Известно, что многие таганские спектакли были очень затемненными, так что зрители последних рядов небольшого таганского зала видели с трудом происходящее на сцене. На дополнительное же освещение, необходимое для съёмки, Ю.Любимов не соглашался категорически. Но вот однажды, снимаясь для передачи Л.Георгиева из цикла «Московские встречи», Ю.Любимов обратил внимание, что болгарские телевизионщики используют при съёмке всего две небольшие лампочки. «Если речь идёт о двух таких лампочках, я бы не возражал, чтобы вы сняли какой-нибудь наш спектакль», – сказал он Л.Георгиеву. Когда «Таганка» приехала в Софию, Георгиев напомнил главному режиссёру театра этот разговор. Любимов не отказывался от данного им обещания, и, в конце концов, было определено, что болгарское телевидение запишет два спектакля – «Добрый человек из Сезуана» и «Гамлет». И тут Л.Георгиеву пришлось пойти на хитрость, о чём он рассказал на страницах своей книги: «Я взял на себя сложную задачу – не допустить Юрия Петровича в зал ни во время действия, ни в течение антракта. Ни под каким предлогом! Потому что, Боже мой, какие там две лампочки! По два прожектора с двух сторон, мощные, как в противовоздушных батареях, били жёлтым светом на сцену… Если бы Любимов проявил любопытство, то он увидел бы на сцене самую светлую Данию, которую только можно себе представить! Каким образом мне удалось не пустить его в театр, я и сам до сих пор не понимаю». Х.Бояджиев, известный болгарский телевизионный режиссёр, утверждал в интервью корреспонденту софийской газеты, что он находился во время съёмки с Ю.Любимовым в телевизионном автобусе. Любимов мог видеть спектакль на телемониторах, а на них непрофессионалу невозможно судить об уровне освещённости. Судьба этих записей долгое время была не известна. Как только их ни искали – всё напрасно! Но недавно выяснилось, что это не случайно… Х.Бояджиев в том же интервью сказал: «Мы сделали две уникальные записи. Ни в одном театре и ни на одном телевидении в мире нет «Гамлета» с Высоцким. Только на нашем. Но записи исчезли случайно из-за неряшливости. Просто поверх них записали другую передачу». Так что записи, увы, погибли безвозвратно.
Для всех таганских актёров время, проведенное в Болгарии, было расписано буквально по часам. Помимо спектаклей, были ещё концерты, встречи со зрителями и даже съёмка для телевидения. Ведущий передачи, известный болгарский журналист Л.Коларов, пригласил к себе домой (там велась съёмка) четверых таганских артистов – В.Высоцкого, Л.Филатова, И.Дыховичного и И.Бортника. Высоцкий представил своих товарищей, а о нём самом Л.Коларов сказал: «Владимир Высоцкий известен не только как актёр, но и как бард. Можно так сказать?». – «Нет, – сразу ответил Высоцкий, – я не люблю это слово. Я просто пишу стихи и исполняю их под гитару». (Помнить бы об этом тем, кто накрепко – не оторвёшь – присоединил слово «бард» к имени поэта!»
После окончания телевизионной съёмки к компании присоединился главный режиссёр Театра на Таганке Ю.П.Любимов. Поздно ночью Л.Левчев, живший в том же доме — два этажами ниже, пригласил всех к себе, а уже рано утром Коларов на своей машине отвёз артистов в гостиницу. Во время пребывания «Таганки» в Болгарии фирма звукозаписи «Балкантон» предложила Высоцкому сделать пластинку. Несмотря на невероятную загруженность (запись пришлось делать ночью, другого времени не было), тот сразу же согласился,ибо впервые в жизни появилась у него возможность увидеть настоящую, большую пластинку со своими песнями. Напомним, что к описываемому времени в СССР вышли лишь несколько так называемых миньонов, а о дисках, записанных впоследствии в Канаде и Франции, ещё никто и не слышал. Сказать, что идея принадлежала фирме «Балкантон», было бы, не совсем точно. В мире «торжества идей социализма» фирмы могли иметь какие угодно идеи, но вот только реализовывать их без разрешения высокого начальства не дозволялось. Вспоминает аккомпанировавший Высоцкому во время записи актёр «Таганки» В.Шаповалов: «Мы ночью поехали на студию. Вернее, нас повезли. За рулём был нагловатый молодой человек, оказалось – муж дочери Тодора Живкова. Вот в каких сферах всё это организовывалось». (Здесь я должен возразить, замечательному актеру Виталию Шаповалову. Иван Славков мог быть и совсем другим – сердечным и остроумным. «Батето» очень любили в Болгарии. К тому же, без помощи Ивана Славкова, можно утверждать, стопроцентно не состоялись бы вторые болгарские гастроли Таганки в 1996 году). Вместе с В.Шаповаловым Высоцкому аккомпанировал другой таганский актёр Д.Межевич. Как оба они вспоминали, пластинку сделали без единого «дубля». Диск, получивший название «Автопортрет» (на конверте его помещён автошарж Высоцкого), вышел в свет через несколько лет. Записанных песен, однако, оказалось больше, чем поместилось на пластинке. Уже в 1990-е годы «Балкантон» выпустил пластинку «Владимир Высоцкий в Болгарии», куда вошли песни, отсутствовавшие на первом диске, и авторские комментарии к ним.
В Болгарии «Таганка» имела колоссальный успех. Зрители одинаково восторженно принимали и спектакли, и концертные выступления московских актёров. Но самым популярным среди всех был, конечно же, Владимир Высоцкий. Его успех перекрывал все мыслимые пределы, но он никогда не пользовался своей популярностью в ущерб коллегам-артистам. Так, 20 сентября таганские актёры выступали с концертом в Варне. Пел И. Дыховичный, читал свои пародии Л.Филатов, выступали другие таганцы. Последним на сцену вышел Высоцкий. Он спел запланированные три песни и хотел закончить, но зрители устроили овацию и требовали продолжения. И тогда Высоцкий тактично, но очень решительно твердо сказал: «А мы хотели закончить нашу программу все вместе. Это же ведь программа наша общая. У меня у самого есть отдельные программы, но сегодня мы выступаем вместе».
— Многим нынешним артистам, не обладающим и сотой долей популярности и таланта Высоцкого, хватило бы мужества произнести такие слова? «Сколько мы городов посетили! – вспоминал Д.Межевич. – Называйте любой, – не ошибётесь. Везде нас принимали исключительно радушно». Высоцкого до сих пор помнят в Болгарии, и столице страны Софии даже появилась улица, носящая его имя. А в Москве улицы Высоцкого нет до сих пор… О великолепном приёме в Болгарии восторженно говорил и сам Высоцкий: «Удивительная публика! Думаю, что тут примешивается обычное гостеприимство, и, может быть, поэтому нам кажется, что ваша публика принимает нас даже лучше, чем наша. В её аплодисментах мы чувствуем искреннюю благодарность и желание нас поощрить, доказать, что болгары понимают, что нет никаких языковых барьеров. Всех объединяет большое искусство. Интерес вашей публики – не просто любопытство, а желание узнать что-то новое получить какие-то новые впечатления. То, что мы почувствовали здесь, превысило все наши ожидания и предположения».
* * *
Однако в информации моих болгарских друзей есть все же некоторые неточности и даже ошибки. Так, Журналист В. Кондаков упомянул о банкете в честь театра в резиденции «Бояна». (Во времена Живкова это была закрытая правительственная резиденция, где он жил). Это неверно. Тодор Живков сам приехал в «Сатиричный» театр смотреть спектакль «10 дней». Незабываемым зрелищем было подношение цветочных корзин от разных болгарских организаций и в завершении — громадная цветочная корзина от Генерального секретаря Болгарской коммунистической партии. Затем в честь «Таганки был дан банкет в ресторане «Сатиричного» театра. Ресторан находился на первом этаже. Этот банкет запомнился Самойлову на всю жизнь. И этому есть причин. На одной из съемок на телевидении, он познакомился с помощником режиссера М. Ивановой. Девушка понравилась Самойлову, и он стал проводить с ней все свободное время. А свободного времени было совсем немного. Приходилось играть в трех спектаклях: Лаэрта в «Гамлете», Керенского в «10-ти днях», и в том числе ввод в «А Зори здесь тихие». В «Зорях» он играл возлюбленного, а после спектакля был по настоящему влюбленным. Словом, гастроли были напряженными. К этому времени Самойлов уже закончил Литинститут. В Болгарии в одном журнале был напечатан его очерк. За это он получил приличный гонорар, который очень украсил его пребывание в Болгарии. Одним словом, восторженный прием болгарских зрителей, конная милиция, ажиотаж вокруг театра и ко всему прочему ухаживание за красивой девушкой, похожей в глазах Самойлова чуть ли не на Софии Лорен, сделали свое дело: в разведку триумф породил наваждение. На банкете за большим круглым столом вместе с Живковым посадили Любимова, Демидову, Высоцкого, Самойлова, Смехова и Славину. Все шло по протоколу: выступил Живков, потом Любимов и возник вопрос, кто выступит от лица актеров. Самойлов стал подталкивать рядом сидевшего Высокого, но тот стал наоборот подбивать его.
— Ты же у нас лучший оратор, давай, старик! К этому времени этот «старик», так «наракиился», что ему и море стало по колено. Самойлов встал и, копируя Брежнева, стал благодарить Генерального секретаря Болгарской Коммунистической партии за теплый прием, устроенный банкет и, главное, за глубокое понимание современного театрального искусства. У всех «Таганцев» глаза полезли на лоб. Любимов мгновенно стал бледнеть и с ужасом уставился на Самойлова. Все потеряли дар речи, поэтому никто «оратора» не останавливал. А Самойлов, не обращая внимания, «заливался соловьем» и разводил пресловутые «сиськи – масиськи». И вдруг Живков громко захохотал и зааплодировал. Все уставились на него: не сошел ли он с ума? Актеры не верили своим глазам. Неужели проскочило? В конце этой столь «нестандартной» здравицы кое-кто из присутствующих даже похлопал. Банкет продолжился, однако неожиданно исчез Любимов. Вначале на это никто не обратил внимания. Ну, подумаешь, вышел человек, что тут такого? Позже, через 16 лет Юрий Петрович рассказал, что с ним тогда произошло. Вот буквально его слова: «Я тогда уже знал, что в следующий год театр поедет с «Гамлетом» в Югославию на театральный фестиваль. Когда я услышал это выступление, я понял, что нам конец! На фестиваль нас не пустят. Выйдя из театра, я пробрался между конной милицией и вошел в ближайший ресторан. Это был Венгерский ресторан, который до си пор находится на углу двух улиц.
Попросил чего-нибудь выпить. Мне предложили «Мастики». Заказал 150 граммов. А эта «Мастика», черт знает сколько градусов — около пятидесяти. Конечно, меня ударило так, что ноги подкосились. После этого я вернулся в ресторан. Смотрю, никого не арестовали, Тодор Живков мне улыбается… Сел на свое место и незаметно покачал головой в сторону горе оратора. А этот, балбес продолжает выпендриваться, словно герой Советского Союза, какой-нибудь, как-будто совершил подвиг. Господи, подумал я, только бы не дошло до наших стукачей. До КГБ, конечно, всё дошло, но спас Живков, его добродушие. Оказалось, что в Болгарии его копировали кому только не лень. Наши сочли, что нельзя отставать от болгар и не стали заводить дело».
Известно, что ничто так не льстит самолюбию мужчины, как репутация грешника. Вот и Самойлову долго казалось, что его выступление было весьма оригинальным: на банкете встретились два руководителя, обменялись мнениями об искусстве и остались друг другом, вполне довольны. Позже, осведомленные «специальные» люди рассказали Самойлову, что он был на волосок от «судьбоносных выводов».
Наваждение тем и опасно, что подстерегает человека всегда, если ты не защищен законом и божьим промыслом.
После Софии Будапешт показался красивым, но несколько прохладным городом. Играли практически те же спектакли, но прием был другим – сдержанным и рассудительным. Другой народ – другие нравы. Впрочем, с гастролями в Софии, могут сравниться разве только что гастроли в Париже.
В Венгрии Любимов познакомился со своей будущей женой Катериной. В городе Дебрецен Катерина помогала Любимову в качестве переводчика. Именно тогда Самойлов обратил внимание на красивую молодую женщину, которая сидела рядом с шефом. Самойлов запомнил короткую стрижку, очерченные брови и лицо целиком поглощенное тем, что говорил Юрий Петрович. В этот день у Любимова было прекрасное настроение. Он шутил, как всегда, много «работал на публику», но было заметно и другое — ему нравилось общение с переводчицей. Потом был банкет, на котором Катерина вела себя очень сдержано и умно. Её короткое выступление всем запомнилось. Говорят, что глупые женщины влюбляются, а умные выходят замуж. В данном случае, наверное, было и то и другое. Уже тогда бросилось в глаза, что у нее определенно сильный характер. Позже этот характер узнал весь театр. Одно можно сказать наверняка: не встреть Любимов эту женщину, он никогда не прожил бы такую долгую и счастливую жизнь. Однажды буфетчица принесла наверх Любимову обед. В гречневой каше оказалось две черные неочищенные крупинки. Что тут было – не передать! Но на этом хочется остановиться: «Не судите, да не судимы будете». У этой короткой части из Евангелия от Матфея есть продолжение: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какой мерой мерите, такою и вам будут мерить».
Все остальное Самойлов узнал позже. В этом смысле он всегда в театре узнавал если не последним, то гораздо позже других.
На следующий день, выходя из гостиницы, Виктор обернулся и увидел на пятом этаже Любимова, делающего зарядку.
— Вот молодец, — подумал он еще тогда, — сколько приемов, банкетов, встреч, да просто эмоций, а он рано утром с обнаженным торсом, с радостным настроением делает зарядку и ему море по колено. Венгрия запомнилась Самолову еще одним эпизодом. Как-то раз рано утром Самойлов застал Любимова в буфете. Он взял кофе и попросил разрешение присесть рядом.
— Юрий Петрович, я хочу поступить на высшие режиссерские курсы, — начал Самойлов.
— Зачем? – удивился шеф. — Я вот, например, не кончал никаких курсов. И ты видишь, не смотря на это, работаю – хуже не стал.
— Но, Юрий Петрович ведь, вы — гений. А гений — это метеор, освещающий свой век. Сегодня без образования никуда не примут, тем боле в театр.
— А что ты хочешь от меня? Если моего согласия, то, пожалуйста. Но не много ли тебе высших образований?
— Одно другому не мешает, Юрий Петрович.
— Но ты все-таки определись, кем ты хочешь стать. Актер ты хороший, писатель — один из лучших «Таганки». Смотри, ты так можешь скорее разучиться, чем научиться.
— Чтобы научиться, Юрий Петрович, мне нужна ваша рекомендация.
— Куда?
— В ГИТИС, на высшие театральные курсы.
— Ты хочешь уйти из театра?
— Нет, буду совмещать.
— Как совмещать? Ты будешь у меня одной ногой, а другой будешь ставить в другом театре? Или то и другое ты хочешь делать в нашем театре?
— Если это получится, то это идеально, дорогой Юрий Петрович.
— Ну, ты и нахал, Самойлов. Хорошо, я тебе дам рекомендацию, а потом посмотрим.
Любимов встал и, похлопав по плечу, сказал: «Ты тут о гении заговорил. У Луи Арагона есть определение, которое тебе надо запомнить: «Гении – это океанские лайнеры: они никогда не пересекаются». Смотри же, чтобы это новое увлечение, не стала причиной твоего ухода из театра.
* * *
Мы летели в Москву после гастролей в Югославии и Венгрии восторженными триумфаторами.
Все были модно одетыми, везли подарки друзьям и близким. В аэропорту нас встречали родные. Театральная труппа выходила из контрольной зоны тремя потоками. Самойлов проходил по соседству с Любимовым. Кумир был одет в новый кожаный плащ голубовато – серого цвета, пушистый седой чуб свисал на лоб. Он смотрел вдаль и кого-то из встречающих, приветствовал широкой улыбкой победителя. Самойлов бросил взгляд в ту сторону. Около стены, опираясь на одну ножку и сложив руки на бедрах, стояла Людмила Целиковская. Самойлов внимательно присмотрелся и все понял.
Единственная и подлинная муза Юрия Петровича была в ярости.
Она пристально вглядывалась в лицо мужа. Он стушевался — усталая красота не могла скрыть виноватых глаз. Распрямив плечи и придерживая тяжелые чемоданы, Любимов победной поступью пошел к ней и вдруг на всё это щегольское выкаблучивание, услышал:
— Юрка, ты что, с ума сошел? Зачем ты нарядился, как п….? По всей видимости, ей все уже было известно. Вскоре они расстались и Кумир начал свою долгую «зарубежную» жизнь.
Тот остроумный ответ шефа Самойлову о двух «не пересекающихся в океане лайнерах», оказался вещим: сказал — как в воду глядел.
Учеба в ГИТИСе потребовало обязательного присутствия на утренних лекциях, потом началась не менее важная стажировка в Вахтанговском театре. В результате на Таганке Самойлову пришлось остаться на разовом договоре и совмещать учебу с работой в театре
Но приглашение ставить дипломный спектакль в Омском драматическом театре — окончательно вынудило Самойлова на долгое время уехать из Москвы. Поставив у омичей подряд два спектакля, Самойлов оказался в поле зрения министерства культуры СССР. Спектакль «Мои надежды» М. Шатрова увидел первый заместитель министра культуры РСФСР и рекомендовал М.Чаусову назначить Самойлова главным режиссером академического театра имени М.Ю. Лермонтова в Алма-Ате.
Самойлов помнил М. Чаусова по сдаче можаевского «Живого», поэтому ехал на встречу без энтузиазма.
В Москве все приличные места были «насижены», а отбивать пороги было не в правилах Самойлова. Встреча с М.Чаусовым оказалась содержательной. Годы сделали свое дело, М.Чаусов стал умным и авторитетным руководителем, с которым считались в любом театре СССР. Он не скрывал своего твердого мнения, в необходимости управления культуры государством, нередко повторял классическое определение, что «скрипач управляет сам собой, а оркестр нуждается в дирижере». В присутствии Самойлова он позвонил министру культуры Казахской ССР и договорился, что вскоре в Алма-Ату прилетит режиссер, которого министерство рекомендует стать руководителем русского драматического театра.
Дальнейшее было делом техники. Самойлов принял театр, с которым пять лет назад встречался только лишь на футбольном поле в Алма-Ате. Мало кто помнил об этом, поэтому Самойлов предпочитал этой темы не касаться. Сейчас следовало, если и забивать голы, то другого совсем свойства и на другом поле.
Вскоре Самойлова избрали членом художественного совета Министерства культуры СССР, и он теперь часто летал из Алма-Аты в Москву, встречаясь на совещаниях с сановными лидерами «придворного театра», есть ли можно так выразиться, которому и сам теперь служил. И как бы ни хорохорились и ни выпячивали груди, а впоследствии и громогласно ни вещали о своей борьбе главные «запевалы» этой театральной соцутопии, — по сути, вся их деятельность была опосредствованным, чуть косметически подправленным, но все тем же лакейским служением. И чем дальше отодвигается это время, тем яснее и очевиднее это становится. В этой игре – в «казаки — разбойники» — Самойлов довольно быстро узнал правила, методы, границы и могущие быть последствия.
В своем театре дела тоже шли – с премьерами, интригами, радостями, заботами. В 1980 году праздновалось 60-летие Казахской СССР. Театр должен был ехать на гастроли в Москву. Спектакли для гастролей были готовы, но вот центрального, как бы ударного, не хватало, и где его взять, Самойлов не представлял себе. И вот тут казахский министр культуры предложил Самойлову книгу Л.И.Брежнева «Целина». Он вынул из ящика почтовый пакет и положил перед ним на большой полированный стол объемную папку, в которой была пьеса, написанная неким московским драматургом М.
— Вы знаете, это может стать козырным тузом ваших гастролей. Димаш Ахметович Кунаев уговорит Леонида Ильича и тот придет на спектакль. Вы вернетесь триумфатором, — восторженно рисовал грядущие картины успеха один из лучших казахских исполнителей на домбре.
— Товарищ министр, у Брежнева в его книге всего лишь тридцать страниц, а здесь девяносто шесть.
— Драматург постарался.
— А не обидится ли товарищ Брежнев, что его произведение так бесцеремонно искажают?
— Не беспокойтесь, Димаш Ахметович предупредит Леонида Ильча о нашем варианте его книги. К тому же у нас московский автор, опытный драматург.
— Он такой же драматург, как я жокей, и какой же тут может быть козырь, когда это самый настоящий капкан-ловушка!
— Вы играете с огнем, а это оч-чень опасно, — повысил голос министр и пристально уставился на Самойлова.
— А не ошиблись ли мы все, доверив вам театр? Его пухлые руки полезли за платком, он хорошенько высморкался и перешел на более спокойный тон:
— Не будем, спорить, товарищ Самойлов. Этот вопрос уже решен, решен даже не мной. Он показал рукой вверх и с неоспоримым подтекстом продолжил:
— Он решен в нашем ЦК, и в министерстве культуры СССР…
Кстати, все заинтересованы, что бы вы после этих гастролей вернулись на белом коне, со званием ЗДИ… Мы ведь не только требуем, но бережем и растим наши кадры. Повторяю, на этом спектакле вы как на белом коне въедете в столицу. Ручаюсь за успех.
— Сорвусь я с коня, товарищ министр.
— Не сорветесь, мы поддержим.
— И уж если честно, вы мне предлагаете не скакуна — с благородного коня и упасть не стыдно, а клячу. И самое главное, Брежнев в соавторстве не нуждается. И сочинили эту книгу совсем для другого. Они хотят наступающий «перитонит» лечить заклинаниями. Они думают, что это лекарство, а это капкан.
Товарищ Самойлов, осторожнее с намеками. А вы знаете, что театры посолиднее нашего с воодушевлением ставят «Целину»? Лучшими творческими силами! В Малом театре объявлена премьера, а Самойлову, видите ли, это выдающееся произведение не подходит, далеко же вас занесло, Виктор Александрович, и народ это уже замечает, ваши коллеги уже беспокоятся за судьбу театра. На вас сильно сказалось ваше театральное происхождение. Нам здесь Любимовых не надо! Мы строим, а не разрушаем. Я никогда не говорил вам о сигналах, потому что верю, что вы сдержите свое слово….
— Извините, я никому обещаний такого рода не давал.
— Товарищ Самойлов, с инсценировкой уже познакомился помощник товарища Кунаева – Владиков. Ему понравилось.
— И вам тоже? Вам тоже такая ахинея нравится?
— Вы в своем уме, товарищ Самойлов, — сдавленно вертя шеей, спросил министр.
— Вы случайно не пьяны? Я не понимаю, как вы с такими странными убеждениями можете не только возглавлять академический театр, но быть актером, то есть играть Самого… Мы во всех газетах расхвалили вас за спектакль «Синие кони на красной траве», за исполнение главной роли, а вы оказываетесь не наш!
Самойлов понял, что если сейчас он не разберется с этим человеком, не скажет ему что-то главное, глубоко спрятанное все эти годы совместной работы, то навсегда останется «телятиной» и исполнителем чужой воли. Почувствовав это, он весь напрягся. Ему почудилось, что в голове у него, приоткрылась черная занавеска и сжатый воздух запульсировал вверх по сосудам. Мышцы его налились и вдруг, как бы разорвав внутри себя только им чувствуемые путы, он быстро, почти вплотную подошел к министру и, установившись в его раскосые глаза, заговорил отчетливо, но каким-то чужим голосом.
— Товарищ министр, вы ведь честный человек, зачем вам делать то, чего завтра придется стыдиться? Нельзя, нельзя …! Вот вы намекаете на мое исполнение роли Вождя мирового пролетариата. Как играю Самого с такими странными убеждениями – так вы сказали – это вы хотите знать? Плохо играю! Отвратительно! Оборотня играю! О-бо-рот-ня …
Министр молчал. Нервная судорога исказила его лоснящееся лицо.
-А этот, — Самойлов указал на папку, — и вовсе споил страну.
-Кого вы имеете в виду? – совсем наивно, но испуганно поинтересовался министр.
— Да его, его – землемера социалистического кладбища. Надоел ведь! Как дурной петух среди куриного подворья, красуется и шепелявит одно и то же: «Смотрите, это я – генеральный амур партии!»
В первый момент министр так перетрусил, что даже присел. Внимательно, снизу вверх, он уставился на Самойлова.
От почти детского испуга этого уже немолодого, случайно угодившего в министерский кабинет «степного акына» Самойлову вдруг до остервенения захотелось, так раскрутит разговор, чтобы вновь почувствовать ту опасную черту, где на грани страха и отчаяния он становился таким свободным. Перед тем, как заговорить, ему показалось, что его кто-то предостерег: «Остановись, бесы проснулись!», — но это было только какую-то секунду. В следующее мгновение он себя уже не контролировал: глаза налились кровью, на лбу выступил пот, сухой рот свела кривая судорога.
— Однако Ильич Второй в сравнении с Первым – сущая застольная мокрица. Первый же дьявол был, зверел от власти и запаха крови, горел сатанинским экстазом, пока не уморил в безрассудном большевистском бешенстве треть страны… Вождь мирового пролетариата! – Последние слова Самойлов по-ленински прокартавил. Ему стало смешно и легко, как от шампанского. Неожиданно он вспомнил композицию семидесятого года, цитаты из нее, как пулеметные очереди, стали стучаться в его памяти. – А вот вам, товарищ министр, оригинал, любуйтесь! Телеграмма Анатолию Луначарскому: «… Советую, что бы были погребены все театры». Интересно, не так ли? А вот еще документик: «Совет Народных Комисаров принял абсолютно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большого театра». А вы этого не читали, товарищ министр? Очень советую взять Полное собрание сочинений Владимира Ильича, прочитать том пятидесятый и другие.
Самойлов буквально опьянел от этой зловещей игры. Он выдавал цитату за цитатой и все больше увлекался, теряя контроль. К тому же, министр был таким трудным партнером и слушателем, что Самойлову приходилось постоянно держать его внимание. Поэтому он гнал вперед, уже не думая, чем все закончится.
Совершенно непроизвольно он схватил министра за рукав пиджака и, глядя в упор, напористо спросил:
— А последние фотографии Ленина вы когда-нибудь видели? Совершенно взбесившийся человек, взгляд издыхающего зверя, вымаливающего яд, чтобы отравить себя, прекратить ужасные страдания. Вот уж верно говорят: поделом вору мука! А знаете, за что такая смерть? За то, что дал народу камни вместо хлеба и змею вместо рыбы! Видите как сбылись слова пророков: «Ваши ноги шагают ко злу, и они спешат, чтобы пролить неповинную кровь; ваши идеи несправедливы, ваша дорога ведет к гибели и вреду…»
— Клевета! Ложь! Диссидентская литература! – с упрямством культуртрегера закричал министр, но вдруг бессильно обмяк. – Мы разберемся.
— С кем? С Лениным?
— Хорошо, хорошо, вы свободны.
В этот момент свет из-за шторы капризными, ребристыми полосками высветил окаменевшее, бледное лицо министра, его быстро мигающие ресницы, скользнул и целеустремленно, горбатясь, как гусеница, пополз по костюму и потному лицу Самойлова. В какое-то мгновение глаза их встретились, и оба тотчас почувствовали бессмысленность этого разговора.
Как только Самойлов вышел из кабинета, министр быстро записал на календаре время встречи с главным режиссером русского театра. Дальше была запись: — Самойлов. Перитонит? Гл. реж. нес Ленина и Брежнева…
Только после этого министр позвонил помощнику Кунаева – Владикову и передал весь разговор. В ответ получил следующую инструкцию:
— «Целину» ставить! С Самойловым не перегибать. Он нравится Кунаеву и снимать его не время.
* * *
Самойлов вышел из министерства подавленным, но не сломленным. Он понимал: раз в Казахстане, где руководитель — член политбюро, решили, что должна быть «Целина», изменить это практически невозможно. Надо было лететь в Москву и искать защиты там. В запасе был, конечно, самый простой ход: заявление об уходе. Но это было не в его стиле. Надо было искать выход, а не бросаться бумажками. До этого Самойлову казалось, что его театральная судьба вполне благополучна, ему тридцать с небольшим, он самый молодой главный режиссер академического театра в этой стране и, казалось, что ничто не может омрачить его существование. А между тем, на смену успеха, пришло наваждение, и избавиться от него, казалось, не было никакой возможности.
В эту ночь ему позвонил из Москвы близкий друг и сообщил, что умер Высоцкий. Первым порывом было поехать немедленно в Москву и попрощаться с Володей. Но подготовка гастролей и непрекращающиеся репетиции не позволяли покинуть Алма-Ату.
На следующий день он собрал наиболее близких людей, и они помянули Высоцкого в доме молодого, но очень известного казахского поэта. Всю последующую неделю Самойлов, от накопленной боли и неурядиц, не просыхал. Его носило по Алма-Ате, он ничего не ел и, не переставая, вспоминал Высоцкого, покинутый театр и то братство, которого ему так не хватало сейчас.
Возможность съездить в Москву появилась через некоторое время. Никто в Москве из театральных начальников не отрицал, что пьеса М… — ужас несусветный. Но при этом все считали, что ставить её необходимо. А М.Чаусов прямо сказал:
— Жизнь режиссера проходит между гордыней и страданием. Типичный пример — ваш Любимов. Он выбрал гордыню и воспевает страдания. А у него самая лучшая карьера, какую я только знал в своей жизни. Убежден, что к тому исходу, к какому двигается наша социалистическая культура, он вскоре и «Живого» пробьет. Поверьте мне, вся эта можаевская «вампука» вскоре не будет интересна нашему театральному «буржуа». Поэтому ставьте «Целину» — это был последний мобилизационный план всей страны. Мой вам совет: выбросите из головы всякие демарши, потерять театр очень легко, второй раз вы так не начнете.
Проведя два дня в Москве, Самойлов успел забежать в родную «ALMA—MATER» — театр на Таганке, поговорить с шефом. Прошло несколько лет, как они не виделись. Он никогда не переставал любить этого красивого, седого, язвительного человека.
Несмотря на то, что его отношение к актерам напоминало отношение помещика к своим крепостным, без намека на равноправие, его воле, даже капризам подчинялись с радостью, ибо понимали: это живой гений! Не обижались на клички, которые он нацеплял на актеров: Губа, Кочерга, Винт, Шапен…
Самойлова шеф называл по-разному: то Самойловым-первым, то Самойловым — Козельским, то просто «крупным художником двадцатого века». И Самойлов ему все прощал. Но когда шеф отказал ему, окончившему режиссерские курсы, возможность поставить самому спектакль — решил окончательно и бесповоротно уйти из театра. И никогда об этом не жалел – хотелось самому думать и решать за себя.
Самойлов поведал шефу о своем бурном разговоре с министрам культуры Казахстана.
— Совсем стыд потеряли! В Малом с брежневской брехней по сцене бегают, книжку с выражением читают, а тебе целое либретто сочинили. Недоумки! Но ты держись. Будет тяжко, возвращайся, твое место не занято. Любимов торопился к началу спектакля, но Самойлов его остановил:
— Юрий Петрович, спасибо за возможность вернуться, но сейчас мне нужна ваша помощь. Очень нужна! Дайте мне телефоны друзей театра, на Таганке, чтобы вмести с ними написать письмо и вразумить высокое начальство, что ставить такую «Целину» профанация, что это произведение не для театра. Вчерне письмо у меня готово, но мне нужны их подписи.
— Кому ты хочешь послать это письмо?
— Брежневу или хотя бы его помощникам.
— Из этого ничего не получится, Виктор. Он взял со стола фонарик и, переключив красный и зеленый цвет, проверил, как он работает.
— Во-первых, никто из них не знает этой инсценировки.
Второе, к сожалению, ты еще не стал такой театральной фигурой, за которую пойдут в драку. В-третьих, вспомни меня, я никого никогда не просил. Сам писал и сам за все отвечал. Напиши от своего имени. В конце концов, можешь сослаться, что советовался со мной. Впиши в свое письмо такую фразу: Любимов считает, что честная и важная для страны книга, пройдя через руки литературных фарцовщиков превратилась в театральную вампуку. Ставить ее, это значит дискредитировать Генерального секретаря ЦК КПСС. Он недолго помолчал и вдруг добавил:
— Впрочем, я тебе помогу. Завтра утром, я сделаю звонок одному очень влиятельному человеку. Вполне возможно, что от тебя отстанут. Всё! Он схватил фонарик и, хлебнув из чашки остывший чай, побежал к началу спектакля. Самойлов вышел обескураженным. Он так рассчитывал на помощь шефа, а он предложил… сослаться на него.
Ему вспомнилось одно слово, которое он однажды услышал от неглупого доходяги, встреченного им во время гастрольной поездки.
— Сегодня, — сказал тот, — появилось особое племя – «насебяшников! Это «насебятничество» в конце концов, всех нас погубит. Но Самойлов тут же отвел это подозрение и обвинил себя:
— Чего я к нему пристаю? У него своих забот невпроворот. Сколько раз себе говорил — не надо заставлять жить других по своим правилам. Как нибудь выпутаюсь сам! — решил он и, поймав такси, поехал пораньше в Домодедово.
В небе жизнь становится яснее
В самолете рядом с ним устроилась супружеская пара. Пожилой мужчина был высоким, худым, в роговых очках. Тонкое, нервное лицо обрамляла чуть намечавшаяся бородка. Спутница его была, очевидно, больна, опиралась на костыль. Самойлов ответил на короткое приветствие и продолжил читать газету. Мужчина изыскано устраивал перелетный быт: на маленьком столике появилась минеральная вода, несколько конфет и кисть винограда. Женщина с увядшим, когда-то очень красивым лицом, на котором теперь застыла гримаса недуга, привычно руководила мужем, и он охотно исполнял любое её желание. Наконец они устроились и только тогда вежливо отреагировали на появившееся из-за газеты лицо Самойлова. Вскоре женщина затихла в уголке у окошка. Сосед вышел и, вернувшись, снял пиджак, чтобы прикрыть задремавшую спутницу.
— Я бы вам советовал попросить одеяло. У окна холодно. На этом рейсе дают. Нам четыре часа лететь.
— И то, правда, — с какой-то детской благодарностью откликнулся мужчина. Стюардесса принесли одеяло, и он бережно укутал женщину.
— Сразу заметно, что вы человек, любящий укромность и благоустроенность.
— Почему вы так решили?
— Смею надеяться – наблюдательность. Вы – лидер. Решили поговорить и у вас всё получилось. Я откликнулся. Разговориться – это значит разорвать путы, избавиться от одиночества, в котором мы от колыбели до последнего вздоха, не правда ли?
— А поделиться своей удивительностью, разве это не главная цель? – весомо перебил Самойлов.
— Конечно и это тоже. Есть редкий тип людей, с которых сорвать печать молчания – мука невообразимая. К этому типу, по-моему, принадлежите вы. Конечно, условно и… недавно.
— Вы что, экстрасенс?
— Нет, я – священнослужитель. Лечу из Крыма на конференцию в Алма-Ату. Жена всегда рядом.
— Вы сказали, что я принадлежу к какому-то типу условно и недавно? Почему недавно?
— Вы очень напряжены. У вас одна и та же поза. Даже лист газеты вы переворачивали почти судорожно. Вы боитесь оторваться, потому что придут мысли, которые вас беспокоят.
— Да, отменная наблюдательность. Это плод знания или духовной проницательности?
— Конечно, и знаний. Но не главным образом знаний.
— И все это вы сумели заметить за этот короткий срок, пока я сидел рядом с вами?
— Ну, положим, не такой короткий.
— Да ведь вы даже моего лица не видели! – воскликнул Самойлов.
— Нет, видел. В каждом человеке есть Божье святилище. Оно во всем: в лице, в походке, во взгляде, но больше всего в выборе поступков.
У Господа нету выбора, поэтому каждый ступивший мимо сразу может быть заметен.
После этих слов, Самойлов заново присмотрелся к этому неожиданному попутчику. Слова у соседа были намагничены живой энергией вдохновения. Особенно хороши были его глаза: серые, глубоко упакованные в замшевую подкладку кожи, несущие черты нелегкой, шероховатой и глубоко выстраданной жизни. Самым удивительным в нем был манера общения: он не учил, а выстраивал, как в литургии, то, что казалось, Самойлов хорошо и давно знает с самого рождения.
— С вами легко говорить, такое впечатление, что вы подслушиваете мысли
— Нет, в этом нет необходимости. Человеческое лицо — это такой экран, на котором при желании все можно прочитать.
— Видите ли, моя профессия – это как раз научить прятать лицо за спиной поступков. И жизнь так устроена, что одно мы думаем, другое говорим, а делаем нередко третье.
— Это явление временное. Рука невидимого садовника, формирующего генеалогическую крону человечества, подрезает и отсекает ветви, не соответствующие задуманному образу.
— Ну, это уже какая-то мистика.
— Правильно. Человеческая жизнь, её существо — экзистенция, кроется не во внешних обстоятельствах, а в мистических свойствах человеческих судеб.
— Один из лучших писателей прошлого века воскликнул, что не нужен ему рай, если он построен на слезе одного ребенка. С тех пор человечество дожило до атомной бомбы, звездных войн, человечество думает о военной программе для защиты против инопланетян. Как все это «сшить» с некой божественной режиссурой, которая голодных не кормит, больных не лечит, а кукловодов оберегает. Где же выход? И есть ли он вообще? – уставился Самойлов на собеседника.
— Выход есть. И он в нас самих. В геноме человека есть «взрывной код». Каждый наш неверный шаг, преступление не остается не отмеченным. Ты преступил, но не заметил, что началась психическая и физиологическая реакция, после чего изменяются процессы жизнедеятельности, наступает болезнь, гибель или безумие.
— Значит, этот снежный ком мы не можем остановить? Так что ли?
— Совершенно правильно. Не можем, но должны.
— Но многим людям так проще и кому-то так это выгодно. Опустившимися маргиналами легче управлять.
— Абсолютно правильно. Сатанизм имеет всё: и средства, и последователей, и цели. Но сопротивление еще очень велико, и в этом главная надежда на спасение.
— Значит, пора ударит в великий колокол идеи, так что ли?
— Вы хоть и иронизируете, но совершенно верно – «пора».
— Ну что ж, вы меня уговорили. Хотя верю я, скажем так, кустарно, от случая к случаю. И сучу ручонкой от лба к пупу тоже не всегда. Чаще даже лукаво.
— Хорошо, что признаетесь. Значит еще не все потеряно, весело засмеялся сосед.
— Не знаю, но говорю честно, что чувствую. А вот что для вас религия?
— Религия — это высшая форма философии. Царство небесное – это ничто иное, как будущее.
— Интересно, а кому принадлежит, это будущее? Посмотрите, как стягивается капитал мира в ограниченный и неприступный круг особых людей, как по мановению дирижерской палочки сменяются правительства, сметаются премьеры, президенты и государства. Вы говорите сопротивление велико, а мне кажется, что оно бессмысленно.
— Я вас очень хорошо понимаю. Не исключено, что такой конспиративный сговор и существует, потому что дискредитация Духа Божьего идет постоянно. Порнография, извращения, проповедь сатанизма — все это подогревается и кем-то, безусловно, внедряется. Но апологеты этого – не черти из табакерок, они – люди. Они платят за это достаточно дорогой ценой: за кнут, награбленное богатство платят потомки — своим бесплодием и вырождением. Но не думайте никогда, что Бог отвернулся от нас. Он отпустил узды, а мы устремились по ложной дороге. Его право наказать нас за неправильно использованную свободу.
Стюардессы начали раздавать еду и разговор прервался.
Самойлов почувствовал такой голод, что на выданный в пакете горячий обед набросился как волк.
Увидев его аппетит, сосед предложил дополнительные два куска мяса.
— А вы что не голодны или, простите, вегетарианцы? – спросил Самойлов
— Да нет, сегодня четвертый день поста. Не беспокойтесь, у нас кое-что припасено.
Спутница проснулась и положила в пластмассовую коробочку два больших крымских помидора и по пирожку с капустой.
— Как же вы держитесь, ведь на этом долго не устоишь? Или святым духом питаетесь? — пошутил Самойлов.
— Именно Святым Духом, — обрадовался сосед.
— И что же это такое? Опять эзотерическое начало? — с иронией уставился на соседей Самойлов.
— Вы хотите знать, что такое Святой Дух? — переспросил мужчина. – Это Творец, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну.
— А как это проявляется в людях?
— Можно сказать, что Святой Дух, вселяясь в человека, развивает его до состояния Божественности и, обретения в Себе, вечного.
— Но тогда таким людям ничего не страшно? – с нарастающим интересам спросил Самойлов.
— Практически ничего
— И они всё побеждают?
— С ними не борются, им уступают. Потому что они разумно действуют с каждым человеком, никого не смущая и не огорчая.
— Спасибо! Извините меня, что задаю вопросы, на которые в моем возрасте давно уже надо знать ответы.
Самойлов опустил ниже кресло и замолк. Удивительно, эти несколько минут общения с незнакомым, но сердечным человеком, сделали невозможное.
Самойлов вдруг отчетливо понял, что ему надо делать, где искать единомышленников и друзей и главное, что он будет стоять на своем до конца! Ему либо уступят, либо он уйдет из этого театра. Ему стало легко и ясно.
Он стал перебирать в памяти все, что случилось в этой поездке и свою беседу с Любимовым.
Годы прошли, а чувство зависимости не покидало его.
«А может так и должно быть? – думал он. — Есть люди, которые однажды прикоснулись к тебе «волшебной палочкой» и ты стал тем, кем суждено тебе было стать».
Там где эта привязанность предается, появляется наваждение, которое все омрачает в театре жизни. Только теперь, Самойлов понимал, что жизнь, прожитая в «золотую пору» «Таганки», это больше, чем ученичество. Это — врожденная, детская преданность Матери, должность которой пожизненная. На этих мыслях он стал засыпать. Ему приснилась странная история, похожая на сказку:
«Как-то вечером, когда мать хлопотала на кухне, к ней подошел одиннадцатилетний сын с листочком бумаги в руках.
Напустив на себя официальный вид, мальчик подал листочек матери.
Мать, вытерев о фартук руки начала читать:
Счет за мой труд:
За подметание двора – 5 лир
За уборку в моей комнате – 10 лир
За покупку молока – 1 лира
Присмотр за сестричкою (три раза) – 15 лир
За двухразовое получение высшей оценки – 10 лир
За вынесение мусора каждый вечер – 7 лир
Итого: 48 лир
Закончив читать, мать нежно глянула на сына, взяла ручку и на обратной стороне листа написала:
За то, что носила тебя в своем лоне 9 месяцев – 0 лир
За все ночи, которые провела у твоей кроватки, когда ты болел — 0 лир
За все часы, когда успокаивала и забавляла тебя, чтобы ты не грустил – 0 лир
За все те слезы, что вытирала из твоих глаз – 0 лир
За все завтраки, обеды и ужины, и бутерброды в школу – 0 лир
За жизнь, которую посвящаю тебе каждый день – 0 лир
Итого: — 0 лир
Закончив писать, мама, нежно улыбаясь, подала листочек сыну. Мальчик внимательно прочитал и две огромные слезы покатились по его щекам. Он перевернул лист и на своем счете написал: «ОПЛАЧЕНО», потом обхватил маму за шею и прислонился к ней, пряча лицо…
Продолжение следует